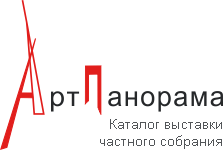В выставочном зале ЦДРА с 20 марта по 15 апреля 2024 г. проходит выставка живописи и графики "Культурный фронт" заслуженного художника РСФСР, художника студии военных художников имени М.Б. Грекова. Алексеева А.Е. (1934-2000 гг.).
В выставке участвуют картины из частного собрания АртПанорама:
Приглашаем посетить выставку!
а так же отправить MMS или связаться по тел.
моб. +7(903) 509 83 86,
раб. 8 (495) 509 83 86 .
Заявку так же можно отправить заполнив форму на сайте.
Статьи
Незадолго до своей кончины Давид Петрович Штеренберг исполнил несколько набросков: «Распятия», похожих на туманные, печальные видения. Ничего даже отдаленно, похожего, ни по стилю, ни по настроению он никогда не делал раньше. Но, случайностью эти: «Распятия» не были. Художник заканчивал свои дни в горестном одиночестве, затравленный, измученный, отторгнутый от зрителей. Его картины не выставлялись и не приобретались, изничтожающе, звучавшее по тем временам определение «формалист», казалось, навсегда связалось с его именем. Сейчас, когда история советского изобразительного искусства восстанавливается в своем подлинном облике, конечно, будет отдано должное и Штеренбергу – нелепые легенды рассеются, портрет художника обретет свои подлинные черты. История его творчества очень своеобразна и ни в какие общепринятые каноны не укладывается. Ведь, далеко не всегда прямые параллели между жизнью и искусством обоснованы и плодотворны. Случается, что художник идет как бы по касательной к своей эпохе и итоги его работы познаются и получают истинную оценку в самостоятельном эстетическом плане. Именно так обстоит дело с Д.П. Штеренбергом. Его открытия относятся, скорее, к внутрихудожественному ряду. Но, надо ли доказывать, что какая-то существенная новизна приемов изображения мира, его восприятия в конечном счете обогащает культуру и в этом смысле имеет социальное значение?! К оригинальному стилю Штеренберг пришел далеко не сразу, долгим, кружным путем. Уроженец Житомира, он уже сравнительно зрелым человеком, преисполненным российских впечатлений, 25 лет от роду, отправляется в Париж. Там он завершает свое художественное образование. Основная часть его парижского периода прошла в знаменитом: «Ля рюш» («Улье») – своего рода колонии-сообществе, где молодые художники разных стран, по большей части нищие и самозабвенно, увлеченные (среди них Шагал, Леже, Модильяни, Архипенко, Цадкин, Сутин, Альтман), искали свои пути в искусстве времени. Все они, конечно же, испытывали влияние французских мастеров рубежа XIX-XX веков, но отнюдь не были их эпигонами и создавали собственные творческие концепции. Штеренберг в Париже бесспорно стал мастером высочайшего класса, тонким, изящным, обладающим целостной завершенностью живописного стиля. Но, там он находился лишь на подходе к своим главным открытиям. Впрочем, и с этим периодом в работах Штеренберга связана особая прелесть и красота. На протяжении ранних парижских лет художника особенно волновала тонкость живописных сочетаний. «Цветы и гипс» 1908-1909 годов – это тихий поток оттенков белого, перемежающихся розовыми, голубыми, коричневыми вкраплениями. Конструктивная основа здесь только намечена, так, что цвет не столько окрашивает предмет, сколько существует сам по себе, в открытом и свободном движении. Он несет с собой ассоциации душевного покоя, радостной и легкой гармонии. Конечно, такая декоративная система не была изобретением именно Штеренберга. Пока, что он лишь варьировал на свой лад принципы некоторых французских мастеров – поздних импрессионистов, Матисса. Но, эти вариации вполне оригинальны, в них есть такие наивно-светлые, быть может, чуточку провинциальные интонации, которые присущи именно ему. Собственное отношение к живописным задачам стало еще яснее проступать в пейзажах и натюрмортах мастера, написанных немного позднее. Узкодекоративные моменты в них все больше уступают главенство четкому ритму, который организует отдельные детали и предметы. Резко, обозначенные и в то же время чуть, колышущиеся вертикали труб на фоне звездного неба набрасывают в «Крышах Парижа» (1911) таинственно-романтическую панораму французской столицы ночью. В целой группе картин (среди них: «Пруд», 1911, «Груши и сифон», 1912, «Печка», 1914, «Натюрморт с чашкой», 1914-1915) на первый план выступают тенденции строгого и четкого геометрического обобщения, которому подчиняется тончайшая игра цвета. «Как все это экономно, с какой суровостью отвергнуты ненужные детали!» – восклицал А.В. Луначарский, увидев в 1914 году полотна в парижской мастерской Штеренберга. Отметим эту тенденцию к лапидарности. Она окончательно сложится после возвращения мастера в Россию. Правда, одновременно, в те же годы, художник исполнял и более «разговорчивые», изобилующие подробностями произведения (например, те, которые он написал в 1914 году, приехав из Парижа в родной Житомир). Но, умение увидеть и изобразить мир при помощи предельно скупых средств, словно, некую формулу, у художника сложилось и определилось. Пока, что это был скорее прием, чем поэтика. Но, в этом приеме он нашел уже сугубо свое, никого не повторявшее видение. Предстояло более глубоко и определенно связать этот прием с настроениями и впечатлениями жизни. Это произошло с возвращением Д. Штеренберга на родину после февральской революции 1917 года. Здесь он сразу же и с какой-то неожиданной энергией включается в общественную деятельность. Правду сказать, весь предшествующий образ жизни и работы Штеренберга никак не предсказывали такого поворота в его судьбе. Затворник мастерской в парижском «Улье», создатель тихих, созерцательных натюрмортов скорее мог бы остаться сторонним и выжидающим наблюдателем в эпоху грандиозных событий. Но, ситуация сложилась иначе. До известной степени ее помогают разгадать эскизы мастера, созданные им для оформления Дворцовой набережной и мостика зимней Канавки в Петрограде к 7 ноября 1918 года. Особенно, эскиз панно: «Солнце свободы» для украшения Эрмитажа, пронизанная, сияющим светом чисто декоративная композиция, полная, восторженной мечтательности. Никаких фигур и сюжетов – только радостные сочетания красок, праздник, ликующей души. Судя по этой работе, новые события на родине казались художнику уже достигнутым и ничем, не омраченным торжеством свободы. Любого рода сложности и трагические повороты времени казались ему преходящими. И он самозабвенно помогал новой власти в организации жизни искусства. Его искренность и душевная чистота были замечены, и он, собственно, почти никому не известный человек, оказался на посту начальника Отдела изобразительных искусств (ИЗО) Наркомпроса в 1917-1922 годах. Дела огромной значимости вроде организации новых выставок, воплощения ленинского плана «монументальной пропаганды» сочетались с самыми, что ни есть будничными делами. В. Маяковский, который также сотрудничал в отделе ИЗО, вспоминал (в стихотворении «Давиду Штеренбергу – Владимир Маяковский», 1922), что художник одной рукой выводил на полотне: «Неву и синь», а другой «под ордерами» расчеркивался «на керосин»... Все это делалось без устали, страстно и самозабвенно. Сохранилась записка наркома по просвещению А.В. Луначарского к В.И. Ленину от 21 декабря 1918 года, в которой характеристика Д.П. Штеренберга, как заведующего Отделом изобразительных искусств, была достаточно выразительная. Конечно же, время было горячим и сложным, какие-то перехлесты и перекосы в повседневной деятельности были неизбежны. Но, вряд ли можно признать, обоснованными ядовитые упреки в адрес Д. Штеренберга, будто бы он со своими коллегами по ИЗО Наркомпроса оказывал исключительное покровительство только лишь «левым» художникам, лишая, содействия и помощи мастеров более традиционных направлений. Есть же факты и документы, и они говорят совсем иное. Вот, к примеру, отрывок из декларации: «О принципах изобретения художественных произведений», напечатанной в конце 1918 года и подписанной Луначарским и Штеренбергом. Там говорится: «Отдел изобразительных искусств настоящим заявляет, что приобретения будут делаться у всех художников, которые этого заслуживают, независимо от направления». Сказано ясно и недвусмысленно. Другое дело, что в первые годы революции «левые» были более деятельны и активны, горячо служили новой власти и именно в силу этого отдел ИЗО имел с ними постоянные дружеские контакты. Тем, кто отсиживался и отмалчивался в стороне, не на, что было пенять. Во всяком случае, уж Штеренберг был искренен и последователен в своих гражданских убеждениях, поддерживая все, что, по его мнению, служило делу революции. Эта общественная его позиция уважительно оценивалась и позже, когда он, начиная с 1925 года, был председателем Общества станковистов (ОСТ) – самого радикального среди художественных объединений середины 1920-1930-х годов; бесспорно, что дух современности той поры в самом широком диапазоне – от обожествления техники до культа спортивности – был тогда сильнее и ярче всех выражен именно «остовцами».
Автор статьи А. Каменский
Материал взят из публикации: Каменский А. Давид Петрович Штеренберг: [Художник, 1881-1948] // Огонек. – 1989. - № 33. – С. 16.