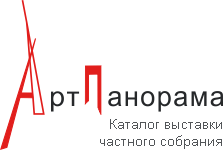а так же отправить MMS или связаться по тел.
моб. +7(903) 509 83 86,
раб. 8 (495) 509 83 86 .
Заявку так же можно отправить заполнив форму на сайте.
Автолитография. Вопрос-ответ.11 июн, 2025
Режим работы галереи в июне 2025 года23 мая, 2025
Режим работы в июне 2025 годаАрхив новостей
Статьи
Петербург, даже в том мизерабельном и рабском виде, в каком он со скрипом дотягивает до трехсотлетнего юбилея, все еще ведя, свои уроки вкуса ненавязчиво, подспудно, изо дня в день продолжает возбуждать у живописцев неутолимую тоску по искусству аристократическому, по культуре с негромким, но верным голосом, иными словами – по культуре, сомасштабной человеку и потому, интимной. Интимной, но неотрывной от «большой» истории, наподобие того, как, благодаря, представлениям о родовой чести, частная жизнь дворянина всегда оставалась частью общенациональной исторической линии. Современные американские культурологи различают «холодную» и «горячую» культуры. Последняя, стремится к постоянному обновлению, она динамична и саморазрушительна, она тяготеет к непрерывной экспансии в сопредельные области жизни, в другие художественные языки, тогда, как «холодная» культура традиционна, закрыта для внешних влияний, канонична и тесно связана с ритуалом. Петербург породил нечто, странное, и нигде в другом мире, невозможное. Здесь возникла и до сих пор существует культура, которая, одновременно, эзотерична и улична. Она не в силах порвать с мощной художественной традицией, когда-то, вызвавшей ее к жизни, но в тоже время, вирус модернизма живет в ней и в наше постмодерное время. В ней продолжает бродить, некая, изначальная (не от Петра ли еще Великого, дошедшая?) закваска глобальной эстетической утопии, ее по-прежнему пъянит хмель химерически, преобразующего реальность Проекта. Петербургская культура сегодня – это обостренный спиритуализм, но это и состояния предельного сомнения в реальности Творца, тем более, в реальности, собственного «я», которое непрерывно вибрирует между «я» и «Я». Ритм этой вибрации создает особое человеческое измерение – новое, интеллектуально наэлектризованное пространство. Пространство, где дан шанс выжить, не сойти с ума, не покончить с собой, только, если обнаружишь и удержишь в себе это в высшей степени аристократическое чувство человеческой сомасштабности – сомасштабности своего тела архитектуре и ландшафту, окружившим тебя, и «проективной» сомасштабности своей души в перспективе, открывающейся вечности. Искусство, которое создано в границах такого пространства, можно, конечно, продать, как, впрочем, и все, что сейчас с большим, или меньшим успехом продается. Любой покупатель окажется разочарован, или дезориентирован, вывезя свою покупку в холодные, или жаркие страны. Так, наверное, нельзя купить венецианскую лагуну и увезти ее с собой. Даже, если сам Кристо упакует. Дело в том, что интимное и соразмерное человеку искусство непереносимо и непродуцируемо. Возможны только подделки. Искусство, неуловимое для средств массовой информации, как бы далеко ни шагнул технический прогресс, сохраняет свое дыхание, свое тепло только в оригинале. И только в оригинале, который окружен аурой, породившего его пространства. И, только такое искусство представляется мне сейчас аутентичным и спасительным. Таково искусство Анатолия Васильева. Откуда оно возникло? Внешне благополучный фасад жизни: обеспеченная семья (отец – кадровый офицер, летчик), годы учебы в Мухинском училище, десятилетие службы в качестве дизайнера-интерьерщика. Ни конфликтов с администрацией, ни подписи под правозащитными письмами, ни протестов с обращением к мировой общественности. Но, при этом напряженная внутренняя жизнь, питаемая радикальным, неприятием всего официозного, фальшивого, ангажированного советской системой, – иными словами, духовное подполье, где создаются работы, изначально, обреченные на несуществование в той сфере, которая именовалась штатными искусствоведами «миром прекрасного». Мастерская в подвале остается единственным экспозиционным залом, куда лишь немногим друзьям – живописцам, поэтам, писателям – открыт доступ. В середине 1970-х годов «подвальное» искусство Москвы и Ленинграда прорывается к более широкому зрителю, преодолевая вязкое сопротивление официоза. Возникает художественно-политическое движение, со своими героями, иудами и многочасовыми очередями обывателей, жаждущих приобщиться к полузапретному новому искусству, которое с великим ажиотажем экспонируется во дворцах культуры им. Газа и «Невский». И снова Анатолий Васильев не в центре, а где-то на периферии движения, словно бы «в подполье подполья», хотя в артистической среде он признан был одним из ведущих мастеров ленинградской «новой волны». Его работы вызывают уважение, приобретают новых и новых поклонников, но сам художник – в отличие от большинства своих коллег по неофициальному искусству – не меняет ни стиля, ни направления своих поисков. Работы Анатолия Васильева сейчас закупают лучшие, что называется, музеи страны (например, Государственный Русский музей), они экспонируются в Париже и Нью-Йорке, они поселяются в хороших галереях, появляются на престижных аукционах и в дорогих каталогах. Впрочем, все это уже скучно – и не только сообщать, но и выслушивать. Скучно, потому, что, все сказанное продолжает быть общим местом, тогда, как подлинный мир художника остается, нераскрытым для зрителей. Впрочем, то, что он пока не расшифрован, не оприходован, не пожран истеблишментом – это его невостребованность лучше любой страховки предохраняет «вселенную Анатолия Васильева» от крайне опасной интеллектуальной и духовной эрозии, которой подвергаются произведения искусства, открытые в последнее время разрушительному интересу наших современников. Столь же скучны и привычны ламентации, или восторги по поводу того, в каких крысиных дырах обреталось неофициальное искусство, прежде, чем стать в период перестройки прибыльной статьей российского экспорта. Зато никак нельзя назвать скучной живопись Анатолия Васильева и – редчайший случай! – беседу с ним. Художник у нас, как правило, косноязычен, и всякое исключение из этого правила – это находка для арт-критика и для зрителя. Мир графических листов и полотен Васильева, возникший и развивавшийся на фоне мощной словесной культуры Петербурга, на грани слова и изображения, получает, таким образом, возможность авторского прочтения и истолкования, т.е. такой ракурс зрения, при котором становится излишней роль посредника-интерпретатора. Анатолий начал заниматься живописью более тридцати лет назад, когда пришел в художественный кружок Ленинградского Дворца пионеров. Была тогда, по признанию художника, какая-то всеобщая увлеченность искусством, стихийный процесс, что ли... Рука сама тянулась рисовать, да и преподаватель оказался человеком, хотя и академического направления, но влюбленным в живопись. В середине 1950-х годов, начинающие ленинградские художники учились, зачастую по репродукциям с работ предшественников, или современных мастеров. Впрочем, оригиналы предшественников еще можно было увидеть в Эрмитаже (Щукинская и Морозовская коллекции, спасенные от спецзапасников в 1940-е годы Изоргиной и экспонирующиеся на третьем этаже музея), а современников – негде. Появились просветители по этой части, которые продавали студентам художественных вузов открытки из Германии, Испании, Италии, – так те узнавали о существовании Миро, Пикассо Ван Гога, восполняя – пусть даже таким суррогатным способом – роковую неполноту и цензурированность официальной системы художественного образования. И, только позже, в конце 1950-х годов, начались большие «привозные» экспозиции в Эрмитаже. Многих потрясла первая выставка Ван Гога, с работами из Франции. Еще позже, в начале 1960-х годов, в страну стали проникать первые серьезные альбомы, монографии о художниках и школах – уже не открыточные картинки, а настоящие репродукции, хорошего качества. Но, все это еще не было творчеством, это была учеба. Учеба, строившаяся на вынужденном недоверии к официозу (впоследствии недоверие перейдет в противостояние). Творчество, по словам А. Васильева, началось с ощущения собственной «инакости». В таких случаях говорят об осознанном выборе, но у Васильева никакого сознательного выбора не было. Скорее, наоборот – какая-то предопределенность, чувство, что его «ведет». Он, может быть, и не хотел идти в том направлении, а пошел – и попал. Попал в тот мир, где живет до сих пор. Мир особый, странный, поражающий воображение. Этот мир, как целостная и гармоничная система, оформился позднее, но, тогда, в начале 1960-х годов, он нуждался в «мирах поддержки», в сопредельных галактиках, и судьбы складывались так, что люди сами находили друг друга. «Тогда, – говорит А. Васильев, – через всех нас действовала некая сила, она избирала и сводила вместе, нужных ей людей. Даже случайные встречи «работали» на эту цель – создать группу людей, занятых общим творческим действием. И, если говорить о задачах этого действия, то тут не обойтись без литературы, чем бы мы в то время ни занимались – живописью, музыкой, или еще чем-нибудь, – и особенно без литературы классической. Для А. Васильева все началось с Гоголя, с его фантасмагорий. Сам он об этом рассказывает так: «Душа искала иных ценностей, миров, отношений, – иных, чем то, что я видел, вокруг. Гоголь завораживал своей неординарностью, фантастичностью, даже демонизмом. Страдающий человек, надломленный, мучительно и, может быть, безнадежно, ищущий на духовной почве – Гоголь остается для меня необходим и сейчас. Вот пишу его портрет. И когда думал о нем, мне в голову пришла одна идея, многое, кажется, в его личности, объясняющая. Ведь это, думаю, Николай Гоголь. Николай. Я понял это, как раз в день поминовения Св. Николая Чудотворца, когда в церкви читают тропарь, который начинается словами: «... Правило веры и образ кротости воздержания учителя...». Конечно, же, Гоголь многократно слышал этот тропарь, эти слова, и они запали в его душу чрезвычайно. И вся жизнь его стал одной постоянной попыткой вогнать себя в те самые «правила веры и образ кротости». Здесь, в работе, где в центре намечен профиль Гоголя, я хочу сделать прорись иконы св. Николая – вон там, на белых полях, у меня оставлено место, и, может быть, сам тропарь напишу, как бы извод из текста – пером. Но, если возвращаться к прошлому, то после Гоголя открылся Достоевский, а через него – петербургская природа, и все это было голубовато-мерцающим, чуть грустным, что-то в этом пейзаже было щемящее, чарующее – звездные ночи, черная Нева, вдруг с огнями, феерически, вспыхивающими, и в тоже время все равно какая-то тайна, все равно уход от повседневного во что-то иное. По-видимому, и эти пейзажи, как я сейчас начинаю вспоминать, и даже первые школьные, несчастные, романтические влюбленности – все казалось освещено было тем «непрактичным», лирическим, что ли светом, который есть и в «Белых ночах» Достоевского. Но, в таком состоянии не было ничего ущербного. Все-таки я рос в благополучной семье, обеспеченной по тем временам, да и у меня самого внешне все складывалось благополучно: учиться интересно, будущая профессия заманчива, и, казалось бы, жизнь уже заготовила для меня достаточно уютную нишу. Но, та же самая жизнь задвинула меня совсем в другой ящик, в иную ситуацию». Эта ситуация питала творчество. Уход от повседневности был, по-видимому, и уходом от идеологии, и отсюда – поиск духовных учителей в лице великих русских писателей, а дальше философский поиск, религиозный... Притягивал к себе Андрей Белый, сильнейшее впечатление произвел Франц Кафка. Мы все в то время много читали, и прочитанное обговаривалось, много спорили о книгах. Ленинградские художники нашего поколения ощущали свою кровную связь с литературой, многие не только постоянно и жадно читали, но и сами писали – стихи, или (чаще) прозу. А. Васильев вместе с О. Лягачевым в середине 1960-х годов издают альманах: «Чертополох». Там были фантастические поэмы, рассказы, повести, которые сочинялись вместе и совместно иллюстрировались. Оказался важен сам процесс совместного творческого акта – опыт нового креативного мышления. Память об этом сотворчестве поддерживала художника и позже. Что же касается собственно живописи, то активное осмысление своего пути в искусстве произошло у А. Васильева после знакомства с Михаилом Шемякиным – на рубеже 1962-1963 годов. Шемякин, зараженный от природы мощным творческим импульсом, одержимый идеей бескопромиссной преданности искусству, обрубал в то время буквально все связи, пошел на конфликт с родителями, с обществом, с официальными живописцами, был изгнан из художественной школы (причина исключения – любовь к Брейгелю и Босху, поскольку, мир босховских персонажей был ему ближе, чем ненавистная повседневность). Вместе с Шемякиным, В. Ивановым, С. Сигитовым и Ю. Борисовым Анатолий Васильев основывает художественную группу, которая, сначала называлась: «Возрождение», а потом: «Петербург». Группа возникла, как противовес, «чавкающей эстетике» советского искусства, как альтернатива ЛОСХу. Участники «Петербурга» учились в музеях, осваивали, утраченные техники, вслед за старыми мастерами обращались к традиционным мифологическим и религиозным сюжетам, как бы, переводя их на современный художественный язык. Тот стиль, который определяет сейчас творческую уникальность А. Васильева, сложился где-то к началу 1970-х годов. Основа этой стилистики – пульсирующие многозначные композиции, где крайне зыбка граница между фигуративными изображениями и чистой абстракцией. Зыбкость этого перехода во многом определяется техникой монотипии; открытие возможностей монотипии и было для А. Васильева началом его собственного пути в искусстве. Впоследствии, он работал и маслом, и темперой, но монотипия дала ему очень много, может быть, потому, что там всегда есть элемент случайности, какая-то размытость, туманность, нечто, ненавязчивое. Благодаря монотипии, он ощутил действие стихий, которыми художник управляет, но которые, при этом не теряют, не выдают своих тайн. Началось общение с материалом, как со стихией. Преобразуя эту стихию, художник, творец, демиург создает свой мир... Со временем пришло открытие, что из хаоса монотипии можно бесконечно «вытягивать» некие значимые образы, «распознавать» их в хаосе. Так открылся путь к раскрепощению подсознания. Работа Анатолия Васильева живет, как бы на разных уровнях. Каждому зрителю в ней может открыться нечто свое. Человек одного уровня увидит, глядя на нее, скажем собачку, или дом, или что-то вроде – т.е., как раз то, что он способен высмотреть там. А, другому откроется совсем иное, может быть, и не вполне материальное. Процесс созидания картины предполагает две стадии: сначала создание хаоса, а потом его освящение. Главная задача – это освящение хаоса, который живет в материале, на холсте, в листе... Огромное значение художник придает фактуре работ. Его отношения с плоскостью листа восходят к традиции дзен-искусства, к практике старых японских, или китайских мастеров. При таком отношении фактура – это след, отпечаток души художника. Каждое касание бумаги, или холста автобиографично. Не исключено, что оно несет уникальную информацию о личности, творящего, что оно сохраняет эту информацию на века и когда-нибудь, исходя из анализа этих прикосновений, возможно, будет даже физически воссоздать личность художника. При таком подходе процесс общения живописца с холстом уже не ограничен достижением определенного формального, или смыслового результата. Работу над картиной можно сравнить с молитвой. И то, и другое – это процесс непрерывный и ограниченный лишь пределами человеческой жизни. Большинство своих работ А. Васильев ведет годами, откладывая, а потом, возвращаясь к ним снова, – и они слоями впитывают в себя те состояния, в которых художник к ним обращается, так же, как одна и та же молитва может звучать по-разному, в зависимости от состояния, молящегося. Иными словами, перед нами феномен религиозного искусства, однако, религиозный смысл искусства понимается художником не в лоб, не однозначно, не жестко функционально. Он определяет свою задачу иначе: «Я занимаюсь освящением, очищением картины, которую должен привести к гармонии. Это моя задача. Поначалу, мы, неофиты, полагали, что можем преобразить весь мир своими картинами, стихами и т.д. Конечно, тут был соблазн. Единственное, что я, художник, могу сделать, – это привести к гармонии картину, но при этом каждая вещь все-таки остается целостными миром. Она должна быть энергетически заряжена, а я судьбою поставлен перед холстом, чтобы освятить его вещество. И картина копит энергию ее, творящего. Она заряжается внутренней энергией художника, как... как лейденская банка. И вдруг – раз! – я вижу, что она зажила самостоятельно». И все же к некоторым работам А. Васильев возвращается даже после выставок – редчайшее для современного художника свойство: ведь для большинства, экспонировавшаяся работа, как ребенок, который бесповоротно родился в мир. Можно ли его после рождения переделать – изменить, скажем, цвет глаз, сложение?... А, в лучших картинах Васильева новые слои, наращиваемые со временем, «работают» одновременно с прежними, старыми слоями, как правило, не перекрывая, не заглушая, более ранние. По сути дела, это сосуществование «нового» и «старого» – вопрос не только эстетики. Сейчас мы переживаем период, когда на одном и том же пространстве, как бы, соприсутствуют разные эпохи, взаимоисключающие стили и концепты существования – буквально везде: в политике, в экономике, в искусстве. Что же делать в этой ситуации художнику? Анатолий Васильев нашел для себя ответ. Он выработал творческую стратегию, которая предполагает наличие особенного зрителя, способного, медитативно «вживаться» в эти работы. Смотреть их – не очень-то «современное» времяпрепровождение сейчас, когда господствует «ударная» живопись, когда бывает достаточно одной коротенькой, плакатного характера идеи, чтобы картина удовлетворяла зрителя. Но, при условии «старомодного смотрения» в работах Васильева слой за слоем, пласт за пластом раскрывается их остро, актуальное содержание, данное, как правило, «под углом Вечности». Вот, скажем, одна из последних работ, «Захолустье» – при беглом обзоре абстракция, выдержанная в коричневых, приглушенных тонах, но если вглядеться внимательней, можно обнаружить буро-зеленоватое небо (и тотчас же меняется эмоциональное наполнение коричневых тонов, которые казались успокоительными в абстракции – теперь они, скорее, говорят о каком-то печально-агрессивном состоянии души: еще бы, экое экологически, угрожающее небо!), в небе самолет, или, что-то, искусственно, летательное на фоне двух бабок (подлинные героини и жертвы перестройки!), выше – символическая рыба, напоминающая не столько о голоде и еде, сколько о катакомбных первохристианских изображениях, еще выше – второе небо, третье – целый свиток небес (конечно же, из «Откровений» Иоанна Богослова), но все вместе – такое, приземленное, разваливающееся, наше, нынешнее... И это еще не последний уровень прочтения, всматриваться можно до бесконечности, не рискуя исчерпать ассоциативное богатство картины. Вне религиозного опыта такой взгляд невозможен, но славу Богу, что в работах Анатолия Васильева нет и тени спекулятивного использования церковной символики, тех в высшей степени, трогательных и доходных «березок, церквушек и ангелиц», какими изобилуют галереи и салоны, арбаты и андреевские спуски. Голос художника становится жестким, когда он говорит о современной околоцерковной художественной индустрии: «Я считаю свое искусство религиозным только в момент создания вещи. Сам процесс создания – вот единственный религиозный момент. Другого религиозного момента нет. Остальное будет лишь слащавая ложь вокруг церкви. Т.е. как вокруг церкви сидят и торгуют бумажными цветами, точно, так же существует и т.н. религиозное искусство – вокруг церкви. Оно заимствует и использует сакральную символику, превращая ее в клише, размазывая, подслащивая, или же, демонизируя»...
Январь 1991. Ленинград
Материал взят из публикации: Кривулин В. Светлая точка на темном фоне (О художнике Анатолии Васильеве) // Стрелец. – 1992. - №68. – С. 282-289.