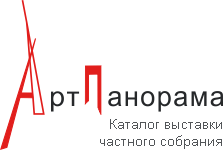а так же отправить MMS или связаться по тел.
моб. +7(903) 509 83 86,
раб. 8 (495) 509 83 86 .
Заявку так же можно отправить заполнив форму на сайте.
Автолитография. Вопрос-ответ.11 июн, 2025
Режим работы галереи в июне 2025 года23 мая, 2025
Режим работы в июне 2025 годаАрхив новостей
Книги
>>Русская живопись XX века В. С. Манин (том 2)
Важно подчеркнуть, что социальная традиция XIX века продолжалась в советское время.
Она не угасла до конца XX века и проявилась в творчестве шестидесятников. Ничего консервативного, ничего дряхлеющего в этой тенденции не заключалось. Напротив, она несла дух сопротивления, несогласия с представленной в официальном искусстве счастливой действительностью. На новом историческом этапе социальная тенденция несла новые идеи. Искусство прирастает духом, а не только формой. Болезненное заблуждение о роли формы без сопряжения ее с жизненной проблематикой вовсе не является прогрессом искусства.
Причем пластическое выражение социального взгляда на мир нового реализма, безусловно, отличалось от передвижнической живописи. Оно было обогащено и личным «взносом», и практикой отечественного искусства первой половины XX века. Тем не менее, звезда поколения начала XX века закатывалась. Одни его представители высказались до конца в 1930-1940-е годы. Другие продолжали активное творчество до 1950-х годов. Как бы то ни было, закат был красивым, и живопись довоенных мастеров не стала безжизненной.
Просто кончилось историческое время старых художников, которые не могли осмыслить проблемы второй половины XX века, осветить должным образом изменившуюся жизнь. Новый реализм возник после революции. Он придерживался иной проблематики, нежели реализм дореволюционной поры, имел свое содержание и свои темы, а в них свои приоритеты. В его пределах развивались разные стилистические потоки, которые часто не замечают или не знают, к какой типологии образности их отнести.
В 1930-х годах пришла новая художественная смена, и не только в лице новаторов Дейнеки, Пименова, Самохвалова и других, но и в лице наследников традиций «Союза русских художников». Однако это была видимость: некоторое подобие стилистики «Союза» сохранялось, но возникали новые проблемы, и они успешно отражались в творчестве художников мощной послереволюционной генерации.
Аркадий Александрович Пластов (1893-1972) — фигура уникальная для искусства XX века. Кажется, что он продолжатель «деревенщиков» из состава передвижников. В действительности он совсем другой как по мировосприятию, так и по принципиальному отсутствию критической направленности творчества. Живопись его работ освобождена от коричневого тона искусства XIX века, более приближена к натуре, вольна и энергична. Его не смущают даже самые яркие, пылающие цвета, которыми он умело управляет, не разрешая им покорить все остальное. Таков, к примеру, красный цвет в картинах «Колхозный ток» (1949) или «Мама» (1964). Красный цвет локален, хотя другие цвета написаны с тоновыми переливами или с рефлексивными отсветами. Стихийность живописи, энергия мазка кажутся грубыми, не согласованными с общепринятой гладкой живописной манерой. В действительности Пластов старается сохранить импульсивность, энергию природы, зафиксировав ее свойства столь же энергичными цветом и фактурой. С целью максимального приближения к жизненным впечатлениям художник, кажется, не придает большого значения построению картины. Классические приемы композиционного строения не для него. Он организует впечатления будто без разбора: показывает все, что увидел глаз. Поэтому даже большие композиции кажутся фрагментами, выхваченными из жизни, не скомпонованными и случайными. Но именно это неподчинение принятым правилам делает картины Пластова впечатляющими свободой и размахом его композиционного и цветового мышления.
Картина «Лето» (1959) кажется нелепо распавшейся на две половины: правая с отдыхающими людьми и левая с огромными коровами, загораживающими пойму реки. Все в этой работе нарушает классические пропорции изображения традиционного стада нидерландскими живописцами XVII века. Там все спокойно, уравновешенно, размеренно. У Пластова все рвется за край полотна, все в движении, а огромные коровы обретают вдруг монументальную значительность и величие. В подобном неподчинении заученным приемам видится новаторство художника, переносящего в картину живые фрагменты деревенского труда.
В связи с тем, что деревенская тема была главной в творчестве Пластова, может показаться, что он был обычным «перелагателем» сюжетов деревенской жизни. Действительно, без своей Прислонихи, где он прожил всю жизнь, Пластов не мог обойтись. Она кажущийся, а отчасти и реальный источник его вдохновения. «Отчасти» потому, что смысл его произведений был шире При- слонихи и глубже, чем простое отображение жизни крестьян. Главный смысл пластовского творчества — в поисках правды, осмыслении ее в формах реальной жизни, воспринимаемой обычно весьма прозаически, но наполняемой художником мыслью о том, что смысл человеческого пребывания на Земле — это сама жизнь, опоэтизированная им средствами живописи. Краски никого не оставляют равнодушными к заложенному в них содержанию, позволяют познать истинное значение природы, познать человеку себя, увидев сторонним взглядом, выяснить правду отношений людей, пребывающих на Земле, в процессе труда и отдохновения.
В произведениях Пластова слышны волнения его времени, осознанные главным образом через образы крестьянской жизни, размышления о могучих природных силах, о социальных катаклизмах. Художник менее всего озабочен своим личным волнением, он старается передать волнения крестьянского «континента», его взгляд на мир и проблемы страны. И если бы эта забота о родине, о родных березках не обретала подлинности чувства, то вряд ли его живопись могла бы стать столь могучим откликом на судьбы мира.
Радость жизни, счастье земного бытия не в абстрактном представлении, а в конкретно-зримом исполнении присущи уже первым картинам Пластова («Колхозный праздник, 1937; «Купание коней», 1938). «Купание коней» — картина радостная, наполненная светом, движением, игрой бликов на высветленной солнцем реке. Молодая, звонкая жизнь кипит, исполненная энергичным, будто эскизным мазком, верным в тоне и передаче пленэрного цвета.
«Колхозный праздник» можно посчитать ложно-патетической работой в духе установок соцреализма, если бы не реальное ощущение праздничности, ярких красок, крестьянского типажа, характерного для этого времени настроения. Погрешностей против обычной для Пластова правды жизни здесь нет. Портрет Сталина и его лозунги — лишь камуфляж, а может быть, такая же реальность, схваченная деталь духа времени. Написанная в этом же году одноименная картина С. Герасимова — более срежиссированная, менее естественная, чем работа Пластова. Диапазон восприятия жизни и ее оценок у Пластова очень широк.
Пластов — тонкий лирик В картине «Первый снег. Сумерки» (1938-1939) есть что-то от архиповского «Обратного», но тема здесь не лиричная, а лирико-драматичная. Об этом говорит темновидный цвет, формирующий драматичное настроение. Свинцовое небо, несущее угрозу, нависло над серым, полутемным горизонтом. Заснеженная равнина с черной колеей на грязной дороге, покрытой талым снегом, черные, силуэтом обозначенные лошади, красный цвет, ложащийся на лицо закуривающего мужика, — все внушает чувство тоски и заброшенности человеческой души в пустынных равнинных плоскостях. Пластов ничего не домысливает. Его рассказ проведен цветом. Сюжет лишь дополняет образ. Но не сюжет главенствует в картине, а осмысленное и прочувствованное человеческое бытие в бескрайних земных просторах.
В искусстве образ строится во многом благодаря обаянию природы, людей, их жизни и быта. У Пластова впечатление достигается вопреки окружающей красоте. Кажется, что черная грязь или кудлатые мужицкие головы, хлюпающая почва скотного двора или полуразвалившиеся избы не могут вызвать чувства прекрасного, но художник силой живописного таланта преодолевает низменность натуры и, ничуть ее не приукрашивая, выходит к выразительным художественным образам, в которых сила искусства восполняет неэстетичность сюжетов реальной жизни. При этом ощущение правды нс утрачивается. Напротив, этическая ее сторона усиливает эстетическую. Художник не может обойтись без рассказа, или, как презрительно называют этот прием, присущий всему предыдущему классическому искусству, — «литературщины». Пластов ведет рассказ не просто посредством верно найденных деталей. Кажется, что их обилие создает перегруженность композиции. Но в том и состоит обаяние пластовской живописи, что подробности создают убедительную картину реальности, а живописное воплощение частностей приведено к единству, адекватному натуральному, что и создает ощущение найденности художественного решения. Между правдой жизни и правдой искусства у Пластова нет зазора, ибо реальность перевоплощается в художественное произведение без искажения ее сути.
Пластова можно назвать человеком, идущим «по солнечной стороне жизни». Таково преимущественное его мировосприятие. Даже тяжесть деревенского труда и скудость жизни не ввергают его в уныние. Жизнь воспринимается как благо, и разные стороны ее входят в сферу обзора художника.
Пластов не ставит перед своим творчеством никаких проблем. Будучи человеком, взыскующим правды, он показывает жизнь во многих ее проявлениях. Официозная критика уличала художника в очернительстве «счастливой» колхозной жизни. Критике подвергались картины «Жатва» (1945), где показано тяжелое военное лихолетье и «Ужин трактористов» (1951), в которой отображена скудная трапеза колхозных работяг. Красный вечерний свет, ложащийся на людей и окружающую их землю, искупает все тяготы социального состояния людей труда.
Если Дейнека изображал прекрасного человека, исполненного античной гармонии, то Пластов показывает повседневного человека в реальных обстоятельствах, окруженного реальной, не приукрашенной правдой, которую он с удовольствием живописует, наслаждаясь вместе со своими героями прохладой колодезной воды («Полдень», 1961), теплым вечерним светом, зажигающим на белом оперении гусей синие и розовые рефлексы («Сентябрьский вечер», 1961), солнечным жаром и сухим шелестом высоких хлебов («Юность (Отдых)», 1954), весенним холодом, обволакивающим разгоряченное тело («Весна», 1954), необъятным раздольем полей («Витя-подпасок», 1951) и т. д.
Пластовский человек живет в природе, он неотделим от нее, являясь ее частью. Земля формирует человека, она доставляет ему радость, одухотворяет его. Природный круг очерчен художником определенно. Поэтому столь большое внимание он уделяет физическому наслаждению природой, которое передает предельно натурным письмом, переживает не только природные состояния, но и предметные ощущения воды, травы, полей, неба, деревьев и пахучих луговых цветов. Человек земли передан поэтически, так же как сама разноликая природа. Есть определенные поэтические совпадения между литературным описанием природы и живописной ее интерпретацией. По этим восторженным описаниям можно судить о столь же восторженном толковании Пластовым реальной жизни, о безусловном к ней уважении. И вот почти дословное описание природы, столь пронзительно воплощенной художником в картине «Праздник» (1967): «Вчера, например, к вечеру вдруг собралась гроза. Три четверти неба с востока затянул темно-синий полог грозовой тучи Густое золото вечернего солнца залило все село, поле, перелески Огненно-золотистая колокольня блистала ослепительной звездой своего креста. Рядом с ней торжественно сияла своим семицветьем арка радуги, а за ней, в мутно-синей мгле, пересекали ее и, обесцвечивая на мгновенье, почти беспрерывно вспыхивали в каком- то грозном веселье голубые сети молний...». В этом поэтическом излиянии есть ряд расхождений с деталями картины, но пафос грандиозности Божьего мира донесен весьма выразительно.
Любое условное, философское или космогоническое понятие, требующее, казалось бы, столь же условного изображения, у Пластова приобретает зримые земные измерения. Его искусство — земное, в широком смысле слова. Ему чуждо теоретизирование, ибо для него достаточно богат окружающий мир в его предметном выражении. После поездки в Италию Пластов написал такие слова: «В росписях Помпеи, в римских барельефах во все времена: античности, Средневековья, Возрождения — всюду художник вносил свое жизнелюбие, конкретность, ненасытную жажду воспроизводить с исключительной трогательностью непосредственности, щедростью и легкостью все, что его окружало и питало его душу и тело. И все это со страстностью как бы впервые припадающего к хмельной чаше жизни, принимающего ее без дальних умствований, как ее может ощутить человек, полный бурного кипенья, бесконечно мощной энергии и устремлений, не знающий в жизни ни страха, ни расслабляющих душу раздумий, ни огорчений, ни обид не отмщенных. Такое буйное цветение, тише клокотанье стихийных сил и чистоты чувств в эпоху Возрождении нам трудно сейчас даже принять существовавшими так далеко мы ушли в рассудочную деятельность».
Разве можно это творческое кредо Пластова хоть отчасти соотнести с прекраснодушным соцреализмом? Если да, то следует признать единородство соцреализма с искусством прошлого, о котором говорит Пластов. Очевидно, обладая такой непосредственностью и конкретностью мышления, вполне возможной в череде других способов изъяснения, художник находил соответствующую конкретную пластику, единственно возможную для его миросозерцания: «Мне мерещатся формы и краски, насыщенные страстью и яркостью, чтобы рядом со всей слащавой благопристойностью они ревели и вопили бы истошными голосами».
В новую эпоху Пластов раздвинул понятие реализма, обогатил его страстной, порой экспрессивной живописью. Повторение Пластова в XX веке оказалось невозможным, но продолжение его начинаний вполне вероятно.
Говоря о пластовском оптимизме, следует отметить, что он сводился не к прославлению сущего, а скорее к согласию с жизнью вообще. Прославлению природы, неба и земли Пластов отдал много сил и получал от этого наслаждение. Трудных сторон действительности, ее тягот он не избегал, но какой бы при этом сюжет художник ни брал, он не страдал безысходностью. Жизнелюбие покоряло все, в жизни, в изображении крестьянского бытия виделся смысл творчества. Реальность и только реальность служила источником его вдохновении.
Искусство 1930-1950-х годов двигалось путем сопоставления несопоставимых явлений. Метод соцреализма был гласным, реализм — негласным мерилом художественного творчества. Вопреки логике заблуждения обретали силу. Затем они исчезали, видимо для того, чтобы через определенное время вновь возникнуть. Казалось бы, зачем «Миру искусства» изничтожать передвижников и позорить мышление искусства XIX века? Зачем «Бубновому валету» отрицать символизм? Зачем беспредметничеству бороться со всем на свете и зачем А. Бенуа вступать в бессмысленный диалог е авангардом? Однако это происходило; страсть отстаивать свое творчество как единственно возможное, признавать новое антиподом старого без всякого допущения мысли об эволюции и тем более о преемственности, обязательно вливать в споры об искусстве наркотическую дозу политики и идеологии, делала художественный мир агрессивным и ограниченным. XX век был слишком политизирован. Главные политические системы мира выдвигали и внедряли в сознание масс свои мифы. СССР — миф о коммунизме и счастливой жизни. США — миф о мечте и красоте безобразного. Разные тенденции искусства постоянно вели диалог за приоритеты, хотя многие из творческих индивидуальностей, не мешая друг другу, могли спокойно сосуществовать. Петров-Водкин был не лучше Дейнеки, Дейнека - не лучше Пластова, а Пластов — не лучше и не хуже Корина. Каждый из них имел свое лицо, свой мир образов, одинаково оригинальных и по-разному постигающих действительность. Но крупные мастера не мешали друг другу. Им мешало посредственное искусство. Павел Дмитриевич Корин (1892—1967)— явление не оппозиционное в искусстве советского времени. Его творчество, с одной стороны, традиционное, продолжающее мировосприятие М. Нестерова, с другой — новаторское, поскольку такой силы образов уходящей Руси никто из художников в новом времени не достигал. Портретные этюды Корина к неосуществленной картине «Русь уходящая. Реквием» не слабее нестеровской портретной галереи 1930-х годов. Об этом уже говорилось. Зато ты второй половины творчества Корина, сохраняя индивидуальность художника, возводят портретный жанр на новую ступень. Искусство Корина особенное. Он сумел изобразить разгромленный социальный мир, непокоренный, идейно-убежденный и не сокрушенный духовно. По масштабу человеческих образов, по силе выраженных характеров, по монументальной значительности церковных иерархов, прицерковных калек и верующих портретную серию и неосуществленную картину «Русь уходящая» Корина можно сравнивать с великими произведениями прошлого.
Образы Корина фанатичны, характеры исконно национальны, напоминают упрямых раскольников, в своем инакомыслии доходивших до экстаза. В них есть глубина и непостижимость духа, чреватая неожиданными поворотами судьбы, подобно образам Достоевского. В этюдах к картине художник овладевает пониманием загадочности русского духа, поколебать который не могут ни время, ни обстоятельства.
Эскиз к картине «Русь уходящая. Реквием» (1935- 1959) говорит о том, что Корин интерпретирует тему как народную драму, и этим он сродни Сурикову. Драма эта, совершавшаяся в основном в 1920-1930-х годах, потребовала от художника определиться в его отношении к преследованию церкви. Но он как бы отстраняется от решения этого вопроса, выражает свое отношение к могучей массе верующих, стоящих стеной за православие, внешне объективно. По тому, как он выстроил священнослужителей грозной массой-демонстрацией, непреклонной в вере, что читается по фанатичным лицам людей, по их решимости к противостоянию, можно заключить, что сокрушить эту молчаливую силу невозможно. Православная Русь, гордая своими традициями и не желающая уступать место социальному прогрессу, сталкивается с невидимой, но ощущаемой силой власти. Действие происходит в храме, где настенные росписи, устремление которых вверх срезано композицией, подразумевают внехудожественный умысел. Психологическое напряжение, запечатленное на лицах людей, говорит о духовной драме, постигшей не только их, но и всю Россию. Картина приобретает нравственную окраску. В ней видится мысль художника, утверждающего, что вера не может быть сокрушена. «Русь уходящую» можно рассматривать как пример искусства христианского сопротивления.
В этюдах к картине отчеканилась жесткая, будто с латунных прописей, лаконичная стилистика Корина, характерная для 1930-1940-х годов. С конца 1950-х она меняется, осовременивается яркой, плотной живописной фактурой.
Второй этап портретного творчества Корина падает на послевоенное время. Несколько изменяется стилистика, но смысл остается прежним. В эпоху соцреализма, прославления вождей и представителей класса-гегемона Корин весьма последовательно обращает внимание на культурные ценности и их носителей — деятелей культуры Особенно примечательно это было для 1930-х годов, когда власть признала отвергаемую прежде традиционную «буржуазную» культуру и открыла таким образом путь к осмыслению этого культурного феномена. Корин продолжал традицию Нестерова и тем самым, подобно самому Нестерову, отстаивал своего рода легальную оппозицию официальной идеологии соцреализма. Иначе обстояло дело в послевоенное время, когда художник, охваченный патриотическим чувством, писал портреты военачальников. Но и это не было уступкой идеологии, поскольку она вобрала в себя старые и новые социальные и эстетические ценности
Сами по себе портреты маршалов И. Рыбалко (1947), Ф. Толбухина (1948), Л. Говорова (1949) и Г. Жукова (1945) не принадлежат к достижениям Корина. Они не только официозные и парадные, в новом понимании, но слишком жесткие, «окаменелые». Человеческое в них заменено репрезентативностью. На фоне портретов военачальников «Портрет С.Т. Коненкова» (1947) и другие представляют разительный контраст. Чтобы понять, что означало обращение к личности Коненкова, надо представить себе исторический контекст внимания к скульптору. Он был одним из первых русских эмигрантов, вернувшихся в СССР. Более того, он принадлежал, по понятиям того времени, к формалистам старой волны, подобно возвратившемуся в те же годы С. Эрьзе, полулегальные выставки которого в подвалах носили скандальный характер. Власть не приняла его. Коненков, скульптор большего масштаба, чем Эрьзя, изображен Кориным с той же монументальной значительностью, что и его другие модели. Скульптурная выразительность фигуры, облаченной в белую блузу, и отчеканенная голова на черном и белом фоне сообщают портрету величественность, которая становится отличительным качеством портретов Корина. В живописи же происходит нагнетание декоративного цвета. «Портрет М. С Сарьяна» (1956) построен на цветовых контрастах: черный костюм, смотрящийся силуэтом, противопоставлен светлой синевато-серой стене, яркий красный галстук — синей рубашке, синеватая стена — краю красной картины. Но еще разительнее «Портрет Ренато Гуттузо» (1961) — зарубежного «формалиста», где светлая гамма желтых, красных, голубоватых цветов выводит живопись на «гогеновский» уровень. Причем здесь нет былой цветовой гармонии. Напротив, цветовой контраст выражается в звучных живописных ударах, отчего личность итальянского художника приобретает экзотические отблески.
Наиболее значителен «Портрет художников Кукрыниксов (М. Куприянова, П. Крылова, Н. Соколова)» (1957- 1958). Характеристики художников разные: от монументальной неприступности Куприянова до умного и как бы сниженного до бытового плана Крылова. Корина привлекает личность человека, ее содержательность, ее ценность. Он применяет свой любимый черный цвет, который из глухого фона превращается в озвученный контраст для красных, сиреневых, белых, желтых и голубых тонов. Это была уже новая живопись, вошедшая в искусство рубежа 1950-1960-х годов, обновление искусства и пример для художников нового поколения. Корин в этих новациях не был одинок. Его поддерживало и искусство Сарьяна, и творчество более молодых А. Дейнеки, Г. Нисского, В. Штраниха.
На переломе 1950—1960-х годов советское искусство резко меняет ориентиры. Разоблачение культа личности Сталина на XX съезде КПСС привело к некоторому ослаблению идеологического режима в искусстве и литературе. Активизируется деятельность журнала «Новый мир». Публикация повести И. Эренбурга «Оттепель» и романа В. Дудинцева «Не хлебом единым» вызвала воодушевление в художественной среде и дала возможность ослабить идеологический надзор за искусством. В изобразительном искусстве это сказалось прежде всего в том, что натуроподобная форма сдала позиции, появилась некоторая условность цвета и рисунка, что видно в произведениях старшего поколения художников. Нагнетание пластических перемен чувствовалось уже в 1950-х годах, в том числе у художников среднего поколения, которые вошли в 1960-е годы не только с обновленной пластикой, но и со значительно изменившейся образностью, с трудом относимой к реализму, и с новым пониманием проблем, вставших перед страной. Среди таких художников следует назвать Георгия Григорьевича Нисского (1903- 1987), творчество которого резко вклинилось в искусство шестидесятников, явившись примером для молодых и составной частью обновленного потока искусства.
Его тема — индустриальный пейзаж, стилистика — модернизация строгой и лаконичной манеры Дейнеки. Монументальное видение мира сообщает его искусству своеобразие, родственное разве что Штраниху.
В работах Нисского 1940-1950-х годов преобладает натурное видение («Верхняя Волга», 1949; «Полустанок»,
1951; «Перед Москвой. Февраль», 1957), но уже в них заметна условность цветового и рисуночного письма: облака имеют геометрическую форму, пирамидальные ели излишне вытянуты, светотень резка, без полутонов. Художник акцентирует внимание на четких линиях перспективных сокращений. Все это необходимо ему, ибо он не изображает дикую природу, не осмысливает ее формы, а передает вторжение в природу промышленного прогресса: линии электропередач, шоссе с плоским асфальтовым покрытием, железнодорожные составы и т. п. Броскость цвета усиливается по мере приближения к 1960 году, пристрастие к прямым линиям и цветовым контрастам отражает современные ритмы жизни, прогресс новой техники, проникновение промышленности в быт человека. Это было знамение времени и признаки новой жизни, которые художник ввел в свое искусство: напряженность цвета («Подмосковная рокада», 1957), оригинальность композиции, где ощущение простора передается стремительным движением самолета, линией горизонта, контрастами цвета («Над снегами», 1959-1960) и геометричностью формы. Впечатляющая монументальность у Нисского все более усиливается («Бакенщик», 1959). Воплощение примет времени делает его искусство динамичным, беспокойным, остроэмоциональным. Ему удалось уловить жизненные темпы и, сменив прежнюю стилистику на лаконичную манеру, задать новое направление в осмыслении современности и ее художественного воплощения, что очень важно, ибо Нисский ввел в обиход искусства новую пластическую красоту.
Понятие «суровый стиль» возникло в начале 1960-х годов. Оно адресовалось к части нового поколения художников, вошедших в искусство на рубеже 1950—1960-х годов с новыми идеалами и пластической формой восприятия, принятого от старого поколения живописцев, обвиненного официозной критикой в формализме (Дейнека, Древин, Кончаловский, Корин, Лентулов и др.). Впрочем, художники уличались также в искажении действительности, в мрачном ее представлении, в отсутствии пропагандируемого в то время оптимизма, во влиянии буржуазной идеологии и т. п. Идеология Запада действительно была растленной, но не она, а современная жизнь оказала воздействие на молодых живописцев. Их отношение к реальности содержало подчас определенную критичность, а пластическая форма возрождала «формализм» осужденного к тому времени искусства прежних, близких авангарду течений.
С не меньшим основанием к «суровому стилю» можно отнести тот поток советского искусства, который еще в 1920-е годы проявил себя в работах Дейнеки, Древина, Петрова-Водкина, Штеренберга и других, а в 1930-е годы и позже ощущался, как говорилось, в произведениях Корина, Нисского и того же Дейнеки. Не только преемственность молодых, но и сама художественная методология названных мастеров убеждают, что «суровый стиль» возник раньше рубежа 1950—1960-х годов. Он клиньями вторгался в новый поток искусства, будучи не только прообразом, но и отражением реальности меняющегося времени.
Дейнека в послевоенное время активизировал цвет в своей живописи. В1944 году он исполнил свежую, динамичную работу «Раздолье», где цвет стал играть активную роль. Однако его искусство по-прежнему отличалось от традиционной живописи. Сохранилась скупость живописного изъяснения, цвет остался лаконичным, но лаконизм его был не плакатного свойства, а с применением рефлексивных оттенков. Причем они весьма часто не являлись отражением натуры, а организовывались художником довольно произвольно, создавая собственную систему взаимодействия цвета, выразительную, гармоничную, нетрадиционную. Дейнека отказывается от плоской плакатности цвета, но он наполняет его глубиной и сложной игрой, когда один цвет просвечивает из-под другого, когда смешение краски создает удивительную глубинную насыщенность цветоотношений.
Живопись Дейнеки — новая, свежая, яркая. В ней отмечена цветовая доминанта, которую сопровождают остальные цвета. В картине «Раздолье» (1944), созданной в конце войны, есть предчувствие победы, скорого мира и счастливой жизни на мирной раздольной природе. Основные цвета — холодные, свежие, подобно ветру. На синей реке ветряная рябь, спокойные, зеленого цвета леса и голубое небо разбиваются теплым цветовым оттенком бегущих девушек. Мотив бегущих по мелкой воде или от воды Дейнека неоднократно варьировал («Полдень», 1932; «Обеденный перерыв в Донбассе», 1935). В этих работах, и в «Раздолье» тоже, присутствует мотив преодоления. Движение преодолевает статику (бегущие от горизонталей купальщики перпендикулярны этим горизонталям), теплый цвет разгоряченных до горения красных тел (купальщики в «Обеденном перерыве в Донбассе») — холодные цвета реки или водоема, а также железнодорожной насыпи (в «Раздолье» — это река и лес). В ранних работах Дейнеки больше непосредственного впечатления. В «Полдне» все промечено безупречно точным цветом без полутонов, будто это беглый этюд. В «Обеденном перерыве в Донбассе» цвет более сложный, он сверкает рефлексами на телах юношей, на брызгах, на воде. В «Раздолье» — тот же мотив бега, стремительного движения навстречу ветру, но и бегущие, и природа больше приближены к натуре, цвет более разнообразен, изображение материализовано, уже не плоскостно, но объемно. Динамика бега стала естественной, не такой, как в картине «Бег» (1930), где бегуны словно остановлены в случайной, не беговой позе на пленке внезапно сломавшегося кинопроектора.
Обычно художника оценивают по трактовке пространства, находя в его интерпретации какую-либо неожиданность. Дейнека, без сомнения, строил разумное пространство, но главная его цель — создать, выразить простор: простор для души, простор свободы, простор, так необходимый для вольного ветра, который ассоциируется с волей человека, постоянно стремящегося вырваться из сковывающих его рамок обыденной жизни. «Какой простор!» назвал одну из своих картин Репин, «В голубом просторе» — Рылов, «Все выше и выше» — С. Рянгина; на простор морской волны рвались челны Стеньки Разина. Выйти на простор, освободиться — давняя и прочная мечта человека.
В. Даль приводит примеры русских поговорок «В русской песне слышится простор души», «Душа на простор просится». Интерпретация простора в русской живописи — это не пространственная категория, а состояние души. Именно так понимает Дейнека задачу картины «Раздолье», и не только ее, а и всех других произведений, где ощущается небесный или морской простор: везде душа «на волю просится».
Бег, спорт, движение, а не статика, гармонично развитые люди (спортсмены), упоение свободой, акцентирование темпа жизни, словно перевод на изобразительный язык слов популярной песни «Марш энтузиастов»: «Нам ли стоять на месте...», — все это заметно еще в одной картине Дейнеки — «Эстафета по кольцу “Б”» (1947). Безукоризненная точность в передаче разворотов спортсменов, разных ракурсов бега, удаляющиеся в глубину линейная и цветовая перспективы — все это результат, прежде всего, виртуозного владения рисунком, а затем цветовым письмом.
С течением времени Дейнека отходит от монохромного цвета начала 1930-х годов, а с другой стороны, преодолевает натурный цвет и выходит к плоской, почти анилиновой раскраске, которая дает эффект яркого, форсированного цвета («На юге», 1966). В этой картине, написанной контражуром, происходит как бы соревнование интенсивных цветов: какой цвет громче «вскрикнет». В основном оркестровка строится на взаимной интенсификации красного и голубого. Из этого соревнования не упускается цель: передача обаяния юности, яркого моря и воздуха. Цветовой форсаж преследует цель вырваться из обыденного восприятия, предложить необычное видение, оставаясь в пределах так ярко понятой колоритности.
В картине «На юге» нет пространства. Взгляд упирается в плотную плоскость моря. Привычный для художника мотив юности преподнесен прямо, без затей и подробностей, обычно сопровождающих любое фигуративное произведение. Таким ярким живописцем Дейнека вошел в 1960-е годы, которые в это последнее для художника десятилетие не принесли ему серьезного успеха.
Художник Василий Николаевич Яковлев (1894-1953) в послевоенном искусстве, так же как в 1930-е годы, занимает особое место, В общем потоке живописцев, разделяющих принципы «нового реализма», Яковлев твердо придерживается академизма в его натуралистическом варианте, когда рисунок ставился выше живописи. Тем не менее, его пейзажи «Август» (1947), «Колхозное стадо», «Пейзаж», «Цветущий луг» (все -1948) представляют интерес, по крайней мере, по двум причинам. Художник останавливает свое внимание на избранном мотиве, никак его не осваивая, так как считает свой выбор достаточным, обладающим всеми качествами национальной природы, чтобы его в неприкосновенности перенести на холст. Такой метод вполне правомочен. Второй этап — перенесение вида на холст должно быть абсолютно фотографичным, чтобы зафиксировать красоту природы. И вот здесь художнику изменяет его глаз. Отчеканенные предметы, исполненные в жесткой тональной манере, при которой черные тени не учитывают падающих на них рефлексов, приводят к тому, что принцип письма становится светотеневым, но не пленэрным и, следовательно, не живописным.
Признавая возможность такого подхода к натуре, Яковлев вызывал скептическое отношение своих коллег, пошедших по пути обновления живописи. Тем не менее, его работы вызывают удивление точностью найденного вида, в котором сконцентрированы самой природой национальный ее характер и обаяние. Но смотрятся его пейзажи, будто из них выкачан воздух, и дали в них такие же стереоскопичные, как и ближний план.
«Автопортрет с папиросой» (1936) Николая Михайловича Ромадина (1903-1987) рисует образ пытливого, подвижного и неспокойного человека, каким этот художник оставался до конца своей жизни. Уже в 1930-1940-х годах его живописное письмо отличалось особой легкостью, сохраненной и в дальнейшем («Зимние ветки», 1932; «Севан», 1940; «Цветущий урюк», 1942, и др.). Ромадин мастерски передает ночные сумерки, интерьеры, освещенные светом и, можно сказать, цветом ламп, что придает им загадочность и оттенок душевного беспокойства. К этим мотивам художник будет возвращаться снова и снова («Дачная тишина», 1939; «Вечер в Орловской области», 1943, и др.).
Подлинную известность принесла Ромадину серия картин «Волга — русская река» (1944), в которых отразился не только характерно русский созерцательный пейзажный мотив, но и оригинальный образ, исполненный эмоционального переживания неяркой родной природы. Чуткостью к душевному движению отличается тонко прописанная картина «Старый московский двор (Сиротская зима)» (1944). 1940-е годы увенчались в творчестве Ромадина рядом пейзажей, замечательно точных по живописному настроению. Каждый из них содержит свою эмоциональную ноту: «Керженец» (1946) — это минорный образ лесной реки, окруженной дикими зарослями, в «Последнем луче» (1945) найден куинджиевский эффект затухающего солнца, любимый следующим поколением живописцев. Затем последовали экспрессивный, густо прописанный пейзаж «Вечер на Укш-озере» (1952), картины «Разлив на Косалме» (1952), «Белая ночь в Карелии» (1952), в которой несколькими точными мазками художнику удалось передать всю лиричность и таинственность разлива реки и глади озера. «Река Царевна» (1954) — одна из лучших работ этого времени. Сравнимы с ней пейзажи «В родных местах Есенина» (1957), «У сельсовета» (1957), «Розовый вечер» (1957), написанные с необычайной легкостью и мерцанием светлых красок, которое придает им лирическое настроение.
В начале 1950-х годов Ромадин рассказывал о том, как, будучи молодым художником, он показал свои этюды М. Нестерову. Пожилой мастер спросил, как Ромадину удалось передать «это». Ромадин сразу понял, что за словом «это» скрывается то невидимое и неслышимое «нечто», которое удается запечатлеть немногим живописцам, и без лишних слов объяснил свое стремление проникнуть в загадочную реальность пейзажа.
В самом деле, лиричные и поэтичные произведения Ромадина содержат некий второй план чувства, рождающийся из видимого изображения. Именно он заставляет зрителя глубже вникать в картину, манящую не только видимой красотой, но и скрытой эмоциональностью, наслаждение которой способно привести в трепет.
Пейзажи Ромадина зачастую будто растворены в воздушной среде. Они наполнены нежными, облегченными красками, которые, сливаясь в едва уловимые цвета, обогащают картину природы («Осень в имении А. Н. Островского», 1942; «Май в России», 1962; «Утро на Славянке», 1964; «Мерцающий день», 1964, и др.), Необычайная легкость и маэстрия письма отличают Ромадина от других мастеров.
Ромадин, возможно, сознательно избегал сложно построенных композиций. Его стихией был фрагмент природы. Картины его кажутся увеличенными этюдами. Но в действительности он просто сохраняет свежесть первого впечатления и доводит его до картинной композиции. Поэтому у него нет целостного образа родины, но этот образ складывается из многих ликов, не синтезируемых в одной картине, а рассыпанных по многообразной панораме пейзажей. Николай Ромадин стоит в ряду крупнейших русских пейзажистов XX века, и только беспамятство современников отодвигает память об этом художнике в сторону.
Лучше рассказать о работе П. Кончаловского, чем это сделал он сам, вряд ли возможно. Читая его записки, понимаешь, что главное в его живописи. Он правдиво сообщает даже о своих ошибках. По приезде в Новгород Кончаловский признался, что прежде не знал русского народа. Новгородские фрески пленили его. В ликах святых он видел прототипы тех людей, которых встречал на улицах, на рынке, среди рыбаков, в кабаке и на ярмарке.
Новаторы, современные и более поздние, «списывали» послереволюционного Кончаловского в пыльный архив. Так же были «списаны» внеавангардные 1920-е и 1930-е годы, а о 1940-х и 1950-х и говорить не приходится.
Между тем Кончаловский не ослабел, а переменился. К оценке его творчества этого времени потребовались другие подходы. К 1950-м годам активно работали только три «бубновых валета»: Кончаловский, Фальк и Осмёркин. Сначала раскритикованные за формализм одними, за предательство идей «Бубнового валета» — другими, к 1960-м годам эти художники, особенно Фальк, стали авторитетными фигурами, к которым обращалось молодое поколение художников, видя в них не только безвинно «осужденных» старших коллег, но и мастеров, с оглядкой на которых можно начать продолжение традиции. Иными словами, искусство их в художественных кругах было востребовано.
Творчество Кончаловского в этот период, с одной стороны, продолжалось в ракурсе нового реализма, в котором совмещались разные стилистические тенденции, в том числе и преобразованная еще в 1920-х годах авангардная пластика «Бубнового валета». С другой стороны, художник предложил нечто вроде античного варианта размышления о ценностях жизни.
К 1946 году относится картина «На полдни», изображающая деревенский пруд с огромными ветлами по берегу, стадо, приведенное на водопой, и мальчишек, резвящихся в воде. Этот типичный деревенский мотив приобрел монументальную значимость благодаря композиционному ритму: огромные деревья в две трети холста принимают на себя главный смысл картины вместе с играющим рябью прудом. Кончаловский всегда умел выбирать композицию в самой природе, он выделял в ней наиболее цельный и значительный фрагмент, не придумывал ничего от себя. Этот типичный для деревни вид он написал легким зелено-серым цветом (деревья) и синим в зеленых рефлексах (пруд). Легкое его письмо с множеством оттенков придает и деревьям, и воде подвижность, будто сообщаемую слабым ветерком. От этого природа не стоит неподвижным «столбом», как у В. Яковлева, отглянцованная до блеска, а вибрирует, дышит, движется, шевелится, живет, не затруженная самобытной живописной манерой художника.
Кончаловский — мастер натюрморта («Натюрморт. Сирень белая и розовая», «Южный натюрморт», «Апельсины и мятая бумага», все — 1946; «Натюрморт. Хлеб, ветчина и вино», 1948, и др.). Предметный мир, повествующий о пристрастиях художника, всегда преподнесен осязаемо, со вкусом, «переживанием» любимых предметов, безупречно переданных цветом. Вопроса о том, живопись это или раскраска, у Кончаловского не возникает.
Тема картины «Золотой век» (1946) не вполне ясна. Но очевидно, что Кончаловский, почти не создававший символических произведений, иносказательно связывающих современность с идеологическими и этическими постулатами, в данном произведении создал нечто отвлеченное, образ античной красоты, чья единственная связь с современностью табуретка, на которой сидит юноша с гармонично развитой мускулатурой. Условность видится и в том, что красивое, «золотистое» тело юноши отчетливо выделено нейтральным густо-синим фоном. Юноша прописан эскизным мазком и этим самым отдален от конкретной натуры. Для Кончаловского такая символизация идеи свободного, гармоничного человека явилась новостью, К тому же человек помещен вне времени и пространства, что усиливает символизацию.
Тот же натурщик, а это был ученик Кончаловского В. Переславец, изображен в картине «Полотер» (1946). Художника заинтересовало здесь раскованное движение: корпус, закрученный винтообразно, не утратил натурной выразительности. Действие происходит в мастерской художника, но его интересует не быт, не модель, а прекрасная гармония тела и его свободное движение. Естественность выражена таким же свободным эскизным письмом, отделка которого до академической законченности уничтожила бы свободу и ясность замысла. Если вспомнить еще картину «Купание красной конницы», то стремление художника воссоздать эллинский дух станет очевидным.
В послевоенное время Кончаловский существует так же, как и его картины, - вне социального контекста. Его занимает одна проблема — свобода пластического поиска. Прошедший все пути живописных исканий, кроме абстракции, в конце жизни он остался верен живописи как смыслу своего творчества, и обновлял ее новыми красками.
Не утратил «вкуса» к живописи и Р. Фальк. Он был художником настроения, настолько тонкого, проникновенного, чувствительного к окружающему миру, что мог его выразить через любой предмет, пейзаж или портрет, В портретах это настроение пело как бы па два голоса: автора и модели. Голос модели заключается в позе, печальном лице, поникших плечах и т.д. Голос автора в живописи, в «направленности» создающих глубинное свечение красочных слоев печальных или радостных опенков.
Портретируемые - не всегда известные лица. Сюжетный круг этих лиц — свидетельство разобщенности искусства художника, страстей и идеологических склонностей общества. Фальк стоял в стороне. Он целиком пребывал в искусстве, которое было его жизненной средой, его профессией («В белой шали», 1947; «Черкешенка», 1948; «Женщина в розовой шали», 1953; «Шура», «Автопортрет в розовой феске», обе — 1957, и др.). Живописью Фальк владел безупречно. Похоже, он пришел к своей «вмазанной» технике после пребывания во Франции, где соединил импрессионистическую чуткость мазка, разделенного на множество сближенных оттенков, с экспрессионистической страстностью и динамичной вибрацией красок.
Пейзажи Фалька, написанные главным образом в Загорске и его окрестностях, свидетельствуют о виртуозном живописном мастерстве, даре видеть движение цвета, просвечивающего из глубины слоев, его живое плавное пение или суетливое щебетание мазка. Живопись художника вязкая, густая, плавкая. Фальк сохраняет «бубнововалетскую» стилистику, отказываясь только от сезаннистской конструктивности. В связи с тем, что он сплавляет краску в густое месиво, у него нет разделенности цвета и краски. Краска — материал для цвета. Поэтому мышление Фалька — это мышление цветом. Он весь во власти цвета. Сюжет, да и предметный мир осмысливаются не в связи с их значениями, а по способности покориться музыке цвета. Стилистика Фалька соприродна Кончаловскому с некоторыми различиями: Фальк — лирик, поэтому его живопись певуча, а Кончаловский - драматический художник в самом широком смысле, поэтому его живопись — мощная, мазок — широкий, изображение почти эскизно, прописаны основные его узлы. Остальное оставлено без внимания.
Настроенчество Фалька сродни левитановскому. Только оно принадлежит к другому времени и имеет свои интонации. Настроенчество Левитана привязано к России, смысл которой художник стремится передать в типично русских ситуациях, ища суть своей страны. Живопись Фалька и его интерпретации почти всегда вненациональны. Характерных русских сюжетов художник, разумеется, не мог избежать, поскольку воспроизводил видимый мир, но главное значение получал у него тот ракурс, который помогал услышать музыку каждою пропетого сюжета.
Картину «Фикус» (1956) нельзя назвать ни натюрмортом, ни пейзажем, ни интерьером, настолько все переплелось ради создания настроения занимающегося рассвета, который окрашивает туманной синеватой вуалью окно, пейзаж, увиденный в проеме драпировки, и синий букетик цветов на подоконнике. Необычно тонки, едва заметны нежные перетекания оттенков, ибо сказать о конкретном цвете затруднительно, поскольку он нигде не открывается, а все настроение возникает из мелодии полутонов. Такие неброские, скромные картины создают целую серию настроенческих мотивов; «Натюрморт. Цветы осенью» (1947). «Цветы на балконе» (1955) и др. В них открывшееся пространство растворяется в цветной дымке. Из этого не следует, что Фальк равнодушен к пространству. У него имеются и другие задачи: создать круг интимных переживаний, сосредоточив их на каком- либо предмете. В этом смысле он близок к настроенческой тематике импрессионистов, для которых воздушная среда — это каждый раз новое настроение. Но еще сильнее Фальк акцентирует цветовую среду, обволакивающую предметы и часто затмевающую пространства
Живопись Филька лирично-камерна. Неброские ее интонации иногда направлены на подчеркивание изящества окружающей предметной среды. От этого и живопись становится изысканной, с классически ясным настроением («Натюрморт. Цветы в супнице», 1951). Самоценным становится не сам предмет, а его исполнение, цветовая гамма нежно-розовых, красноватых тонов и множества их оттенков.
Интимное восприятие мира распространяется и на «панорамные», на первый взгляд, пейзажи: «Репихово. Козы» (1947). «Осень в Загорске» (1955). «Зима в Загорске» или «Солнечный день в Загорске» (обе — 1955-1956). Но чтобы сохранить интимное восприятие провинциального городка с его покосившимися заборами, деревянными домиками и осенней сыростью воздуха. Фальк «убирает» долевую перспективу. Пространство строится словно бы снизу вверх, с растворением «верхнего» цвета и сохранением цвета ближнего плана. Перспектива при этом утрачивается, будучи «затуманена» смазанным, «настроенческим» цветом.
Чтобы понять, в чем своеобразие живописи Фалька и вместе с тем отличие советской живописи от передовой французской школы, достаточно привести наблюдение самого художника. Из Парижа он в 1931 году писал: «Очень не любят серых красок, они допускаются только при каких-нибудь особо занятных сюжетах. В фаворе чистые, яркие краски. Форма должна быть или совершенно исковеркана, или стилизованно выточена. Самое немодное — живописный реализм».
Именно новым реализмом был занят Фальк, особенно по приезде из-за границы. Он посвятил жизнь писанию окрашенного света, имея в виду, «что у нас ослабело восприятие реальностей мира и вместе с тем. конечна реальностей их выражения, в данном случае — живописного искусства». Смысл своего творчества Фальк видит в том же, чем, по его мнению, было высокое французское искусство: «…поживши здесь, я только смог понять, как большое французское искусство XIX века было скромна осторожно, трепетно, из тончайших, драгоценных состояний соткано». Фальк был мастером этих духовных состояний, тончайших настроений, которые он научится передавать нюансами цвета.
Другой участник бывшего «Бубнового валета», один из молодых и поздних его представителей. Александр Александрович Осмёркин (1S92-1953) долгое время оставался незамеченным. В 1930— 1940-е годы он чистится в формалистах и посему постоянно подвергался «разоблачениям». Его творчество началось позже, чем у основных представителей «Бубнового валета». Но в 1920-1950-х гадах оно не уступало работам многих живописцев, выпущенных Осмёркиным из ленинградской Академии художеств. где он преподавал. Превратности его судьбы отражались в эмоциональном строе его произведений, как, например, в напряженном натюрморте «Флоксы и настурции» (1948), называемом иначе «Красный натюрморт». В нем выражены смятение и накал чувств, возникшие посте изгнания Осмёркина из Академии. Судьбы других его сверстников, коллег воплотились в портрете «Мой друг живописец Н. А Удальцова» (194S). Художник в это время (а это было время осуждения А. Ахматовой, М. Зощенко и др.) чутко реагировал на несправедливость «Портрет А. А. Ахматовой. Белая ночь. Ленинград» относится к 1939-1940 годам. Портрет написан пастозным письмом, в котором соединились и цвет, и напряженная фактура краски, в совокупности приведшие к поэтическому истолкованию личности Ахматовой в трудные для нее предвоенные годы.
Н. Удальцова также изображена в тяжелое для нее время: она потеряла ногу, с трудом передвигалась, но продолжала работать. Трагическая интонация звучит в портите. Его названием Осмёркин хотел нравственно поддержать Удальцову хотя сам находился в таком же состоянии, перенеся тяжелую болезнь. Но было у него и другое желание: поддержать и очертить круг замечательных художников, не вошедших в число признанных мастеров.
Живопись Осмёркина 1940-1950-х годов очень предметная, сочная. В ней нет лощености, а есть тяжелый цвет, адекватный «весомой» архитектуре («Натюрморт на фоне Уточьей башни», 1944; «Новая Голландия», 1945; «Митрополичья трапезная и колокольня в лавре», «Номер в гостинице. Загорск», обе — 1946, и др.). Троице-Сергиева лавра показана с двух сторон: торжественная архитектура. внушающая почтение к таланту строителей и к ее фантастически сказочным формам. И другая сторона, намеренно или ненамеренно заземленная: прекрасная архитектура приспособлена для быта, унижена им, — такова реальность («Митрополичья трапезная и колокольня в лавре»; «Вид из окна. Загорск», 1947). Сочная живопись Осмёркина, словно пропитанная влагой, доставляет эстетическое удовольствие собственной интерпретацией цвета — материально-тяжелого, не оставляющего места для тонких настроенческих переливов, как у Фалька. Осмёркин, учитывая опыт «Бубнового валета», обновляет предметное письмо и в этом смысле остается верен традиции русского искусства. Сам Осмёркин, отвечая на вопросы анкеты, написал: «Стиль не выдумывается, а создается сам по себе под влиянием эпохи и времени. Преемственность и традиции в искусстве необходимы, иначе — распад, как всякое положение без основания».
Осмёркин неоднократно отмечал великую роль П. Сезанна, А Иванова и В. Сурикова. Каждый большой художник ставит перед собой задачи проблемного толка. Их решение есть продвижение искусства вперед. Осмёркин в 1940- 1950-х годах сохранял прежний уровень. Он больше жил в прошлом, нежели в настоящем. Обладая редкостным колористическим даром, он не уловил пафос времени. Фальк с его камерным искусством тоже находился словно бы вне времени. Но у него имела место вполне осознанная самоизоляция, погружение в свой духовный мир. Эта изоляция в то же время была оппозицией эпохе. Его трепетное, остропсихологическое искусство кажется интернациональным, не привязанным ни к стране, ни ко времени. Его живописная пластика представляет собой продуманную систему, в которой трудно найти изъян. Живопись его оказалась привлекательной и для его непосредственных учеников, и для более поздних последователей. Осмёркин, в свою очередь, жил в современности, был ею взволнован, но не мог стерпеть ограничивающих творчество регламентаций.
Непосредственным преемником будто бы растворенной в свете и воздухе живописи Фалька стал Семен Афанасьевич Чуйков (1902-1980). Однако Чуйков находился во власти своей эпохи. Он сумел не только передать величественное ощущение жизни, но и окрасить ее своеобразным национальным мировосприятием. Люди, живущие в торжественной ауре, излучаемой природой, настроены у него на лиричный, философский лад, хотя художник не лишен и социального пафоса времени. Чуйков довольно долго жил в родной для него Киргизии. Эти обстоятельства сделали его творчество оригинальным. Фальковская живописная система приложена им к особому горному освещению, делающему предметы объемными. Окраска — главным образом вечернее освещение — сообщает живописи цветовую контрастность и активность. Эта оригинальная живопись Чуйкова фиксирует не духовные движения человека, не психологические нюансы настроения, а величественность Божьего мира и значительность человека, проживающего в вольной стране величавых гор.
Ощущение свободы заключают в себе обширные пространства степей, перспектива которых завершается горными кряжами. Пространство заполнено светом заходящего солнца, ложащимся на освещенные планы, в результате чего удаляющаяся перспектива зацветает сиреневыми, золотистыми, синими, фиолетовыми оттенками. Построение пространства цветом сообщает композиции глубину, которая развивается не снизу вверх по плоскости холста, а вглубь, по мере ослабления цветосилы. Наиболее показательно это строение проявилось в картине «Шмалаи» (1954), а также в пейзажах Киргизии: «Киргизский пейзаж» (1946), «Хлеба созрели» (1948), «На мирных полях моей родины», «Утро в совхозе» (обе — 1950), «Чуйская долина вечером» (1966), и в лирическом полотне «Вечер» (1948). Впечатление огромного мира, где человек не сопоставлен с грандиозным небесным и земным пространством, — иначе чувствовалась бы его ничтожность, — все же распространяется и на него, поскольку он — часть этого мира, слит с ним, растворен в нем. В единстве воспринимается у Чуйкова буквально все. Цвет играет заглавную партию — партию объединителя. Эта его роль хорошо видится в картине «Вечер». Подобно Фальку, Чуйков большое значение придает цветовой эмоциональности. Благодаря просветленным и сгущенным оттенкам фиолетового небо дышит; оживают сиреневые горы; лошадь погружена в густую траву и будто бы очеловечена. Все слито в сиренево-бордовом цвете единым дыханием, песенным настроением. Цвет у Чуйкова более интенсивный. Это сообщает произведениям художника оптимизм, придает размах интерпретации подвижного огромного мира в отличие от камерной, интимной жизненной «окружности» Фалька.
Тема общения человека с мирозданием прошла через многие произведения Чуйкова («У нас в Киргизии», «Вечерний час», обе — 1959; «Вечер в горах Тянь-Шаня», 1965; «В долине Ала-Арчи», 1966; «Утро в горном селении», 1967) и завершилась картиной «Прикосновение к вечности» (1973). Природа у Чуйкова изумительно родственна человеку. Картина «Живая вода» (1966) рисует девочку, лежащую у воды и вглядывающуюся в ее течение, ощущение которого доносится и до зрителя. Девочка, подобно рыбке, готова соскользнуть в воду, словно в свою родную стихию. Подобное радостное удивление вызывают сине-сиреневые горы у проснувшейся девочки, созерцающей сказочную красоту рассвета («Утро в горном селении»).
Зрителя изумляет необычная живопись художника. Свет зажигает краски мира, переливающиеся, перемежающиеся между собой теплые красные, воспламеняющиеСЯ от соседства с синими и сиреневыми. На предметные цвета наслаивается свет восхода, создавая цветовую картину такого многослойного свечения мира, какого не встретишь в других краях. Пользуясь тем же красочным живописным методом, в котором перетекание цветовых оттенков создавало энергию движения, Чуйков достигает особой объемности предметного мира, его пластической завершенности, и ощущение объемов, как в фигуре девочки в картине «Живая вода», обретает у него физическую, телесную убедительность, достигает вершин эстетического совершенства, художественной емкости впечатления.
Главная тема Чуйкова — это бытие огромного мира, величественных горных кряжей. Понятие человеческого бытия исключает бытовизмы. У художника их немало («Счастливое материнство», 1937; «Киргизский пейзаж». 1946; «Утро», «Утро в Киргизии 30-е годы», обе — 1947; «Песня кули», 19595 «Утро в горном селении», 1967, и др.), но за ними таится значительность, возвышение над бытом, погружение в некую ауру мироздания, сквозь призму которой воспринимаются человек и природа. Ю. Осмоловский приводит слова Чуйкова - «Я очень люблю наступление вечера. В это время в мир приходит вместе с сумерками какое-то благородное спокойствие, тишина. Природа и люди отдыхают после трудового дня, и во всем этом проявляется особая, волнующая меня красота».
Красота — это непременная мера любого произведения Чуйкова. Но помимо нее или в ней самой заключен пойманный мировой покой, отразившийся в облике торжественной природы и величественно-значительных людей.
Чуйков-художник, исключая 1930-е годы — время становления, выбора пути, совершенно не привязан к политике, идеологии, хотя изредка может показаться, что он не чужд им Такое обманчивое впечатление производит «Дочь Советской Киргизии» (1948). В советское время картина стала своего рода символом разумной национальной политики. Однако смысл ее не совпадает с политической значимостью. Чуйков показал свободного человека, стремящегося к знаниям. Это действительно явилось результатом политики, предоставившей равные права народам страны. В создании образа большое значение имеют два компонента: композиция и цвет. Взгляд снизу вверх возвеличивает фигуру девушки. Сосредоточенность, прижатые к груди книги отражают серьезность намерений, прочитываемых в лице, и в совокупности с цветовой лепкой фигуры девушки, с ее освещенной фиолетовыми отблесками яркой косынкой и синей одеждой придают образу яркую психологическую окраску.
Чуйков никогда не приземляет человека. Даже в откровенно «бытовых» ситуациях он его возвышает, делает интересным, значительным, всегда подчеркивает индивидуальность, отчего его образы тяготеют к монументальной форме («Охотник с беркутом», 1938; «Утро», 1947; «Колхозная страда», 1949, и др.). Бытовой жанр утрачивает при этом свои очертания. Его суть, обычно сводящаяся к житейской обстановке, домашним и общественным конфликтам, через которые зритель проникается социальными, психологическими, нравственными и иными проблемами общества, под кистью Чуйкова приобретает поэтическую, отвлеченную от общественной проблематики окраску. Быт чаще всего затрагивает национальные струны изображаемой страны, окрашивается лирикой и, несомненно, романтикой, как в бурной, контрастной по цветовому решению, приподнятой картине «Цветы Киргизии» (1962).
Нередко все эти характеристики объединяются в целостные образы, кого бы художник ни изображал. Национальная специфика образа, зависящая от условий жизни, природы, своеобразия быта и труда и даже от света, по-разному окрашивающего мир, относится прежде всего к киргизским полотнам. Но она сказывается и в серии «Наши братья», в частности в картине «Песня кули». Цветовой строй полотна музыкален. Картина лирична, но в крупных формах, фрагментированной композиции, психологическом состоянии чувствуется драма, прочитываемая посредством всех изобразительных средств.
В центре внимания творчества Чуйкова — человек, окружающая его природа; живописное исполнение — это доказательство представлений художника о достоинстве и благородстве человека. И если Чуйкова по инерции причисляли к соцреализму, да и сегодня относят к «проклятому прошлому», то, следовательно, и соцреализм, и социализм были отмечены высшим качеством искусства — человечностью. Надо сказать, что внимание к человеку, уважительное отношение к нему, выявление в нем нравственных, духовных и иных достоинств содержалось в 1940—1960-е годы только в советском искусстве. Весь остальной мир, занятый формальными изысканиями, забыл о человечности. Реализм, социалистический или любой другой, единственный посвящал себя человеку, нормальному взгляду на мир, не обремененному болезненными искажениями. Чуйков был одним из представителей гуманистического искусства наряду с Кончаловским, Кориным, Пластовым, Фальком, Чернышевым, Дейнекой, Нисским, С. Герасимовым и др. Это был поэтический реализм, каким бы непохожим по стилистике ни было творчество названных художников.
В начале века П. Кузнецов создал «Киргизскую сюиту» — цикл романтический, скорее мечтательный, вымышленный, нежели реально отражающий жизнь степных народов. Во второй половине XX века С. Чуйков создал свою «Киргизскую сюиту», названную им «колхозной» в соответствии с веяниями времени. При почти идентичной теме в двух циклах прочитывается разное время, разное мировосприятие и, следовательно, разное образное постижение жизни. Хотя у Кузнецова речь идет о степных казахах, которые этнически близки киргизам, методологию творчества двух мастеров можно сопоставлять. Кузнецов меньше всего постигает жизнь. Он про водит идею счастливого существования под красочны исполненным миражей небом, неторопливой, созерцательной жизни, в которой пространство открывает свои необъятные перспективы, а пластика, отталкиваясь от натуры, стремится к орнаментальной вязи. Поэтому жи вопись теряет цветосилу, приводя сюжетное действие в оцепенение. Предметный мир не описывается, а обозначается. В нем нет объема, сообщающего обычно о внутрипредметных силах, которые распирают предметную оболочку и тем сообщают материальному миру энергию жизни. Мир Кузнецова словно увиден во сне. Он почти бесплотен. Это дает возможность отнестись к нему как к миражу. Разреженный воздух легок, воздушен, светоносен, пространствен. Поэтичность воплощена легкой живописной фактурой: художник слегка касается кистью холста, намечая воздушно-легкие фигуры и предметы.
У Чуйкова, напротив, все строится на энергии животворящей натуры. Люди созерцают и познают реальный, а не вымышленный мир. Они живут, преодолевая инертность. Природа активна, свет зажигает цвета, горы читаются монументальными кряжами, степь погружается в зной и светится золотистыми отсветами, вода журчит, перетекая по каменистому руслу, лица загорелых от горного солнца людей вечерний свет оживляет сиреневыми и лиловыми оттенками. Жизнь полна здесь не мечтательного, а реального счастья. Человек живет в пространстве, иногда общаясь с небом, но чаще — с земными благами. Поэтому, видимо, просторы замыкаются горами, а горы приближены к человеку как красивая и торжественная реальность.
В начале века получила распространение мифология, и в середине столетия миф начал обретать реальные черты благодаря оптимистичному мировосприятию человека. Кузнецов творил мечту как художник и мыслитель. Чуйков черпает реальное благо из жизни. Художник — ретранслятор реальности. Полнота реальности подкреплена у Чуйкова энергией живописи, сложностью ее фактуры, материальной осязаемостью духовного начала, прекрасного окружения, раскрытого настежь мира.
Какая из двух методологий совершеннее? Лучший из ответов: «Каждому времени — свое». Одно отношение к миру переходит в прямо противоположное, и по истечении времени происходит возврат к исходным рубежам. XX век постоянно свидетельствует об этой закономерности, которую сопровождают неизбежные «отрицание с удержанием» и утверждение с отрицанием. Благодаря подобной диалектике и происходит движение искусства.
Следует сказать и еще об одном художнике, чей дух не истощился к концу жизни. Это Н. Чернышев, который создал в 1970-х годах три замечательных полотна: «Андрей Рублев», «Андрей Рублев и Даниил Черный» (оба — 1960) и «Дионисий» (1968). В первом из них одухотворенность иконописца стала предметом вдохновения пожилого художника, еще раз показавшего, что нравственное творческое начало ценно в искусстве. Без него творчество формализуется и теряет смысл. «Дионисий» Чернышева — это он сам, не утративший беспокойства в размышлениях о жизни. Старчески беспомощный, почти бестелесный, но одухотворенный идеей художественного творения, Дионисий перекликается с изображением самого художника в картине Д. Жилинского «Семья художника Н. М. Чернышева».