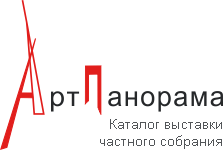В галерейном комплексе Артефакт открылась персональная выставка Виктора Фёдоровича Васина «ЯРКИЕ МГНОВЕНИЯ».
Организатор выставки "АртПанорама".
Выставка работает с 14 июля по 29 августа 2025 г.
Адрес : г. Москва, ул. Пречистенка д. 30/2, галерейный комплекс "Артефакт".
Часы работы: ежедневно с 12.00 до 20.00
Вход свободный
а так же отправить MMS или связаться по тел.
моб. +7(903) 509 83 86,
раб. 8 (495) 509 83 86 .
Заявку так же можно отправить заполнив форму на сайте.
«ЯРКИЕ МГНОВЕНИЯ» ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВИКТОРА ВАСИНА12 июл, 2025
Художник Виктор Васин22 июн, 2025
Автолитография. Вопрос-ответ.Архив новостей
Книги
Русская живопись XX века В. С. Манин (том 2)
>>Бывшие «мирискусники» и их круг. Общество «4 искусства» и близкие ему художники.
Николай Михайлович Чернышев (1885-1973) еще в 1922 году вошел в группу «Маковец». В ее декларации сообщалось: «Мы полагаем, что возрождение искусства возможно лишь при строгой преемственности с великими мастерами прошлого и при безусловном воскрешении в нем начала живого и вечного. Наше искусство выходит не из изобретательных фантазий, не из одного чувства формы, неизбежного для художника». Со всей очевидностью «Маковец», как и все русское искусство 1920-х годов, возвращался назад к прерванным традициям, к искусству, чье развитие было остановлено революционными годами, возвращалось к доавангардному периоду, к предметному творчеству.
Место Чернышева здесь было особое. С середины 1920-х годов и все 1930-е его увлекала тема раннего девичества, обаяние подросткового возраста, весна человека, как бы раскрытие почек, из которых появится юность («,,Дунканши“ на сцене», 1925; «Пионерка в шубке», 1926; «Белье полощут», «За городом», обе — 1928; «Раненый голубь», 1933, и др.). Появление названий картин со словом «пионерка» не должно смущать, ибо далекий от политики художник писал девочек-подростков, поэтизировал этот возраст. Это была его тема, продолжавшаяся всю жизнь. В изображении девочек-подростков много иносказаний и подтекстов. Чернышев улавливает трудновыразимую переходность состояний, слои времени, быстротечность жизни. Он остановил мгновение на лирично-хрупком подростковом возрасте, в котором увидел изящество и истонченность детского тела, пахнущего весной и исполненного надеждами, будто дух, заключенный в изменчивую материальность, пойман в короткое мгновение своего проявления. В картине «Модель на желтом» (1926) ощущается классичность «чистой формы», ассоциируемой с полотном Энгра «Источник». Такая перекличка времен закрепляет впечатление идеальности воплощения молодости и красоты. В определенном смысле Чернышев поставил свое творчество вне текущей жизни. Его взгляд обращен к вечным ценностям: красоте, юности, восхищению природой, искусством, в каждое время обретающим свою тональность. В такой позиции слышится реализация той части программы «Маковца», где говорится о вникании в тайную сущность природы, вслушивании в ее «безотчетные голоса» и перенесении их на холст. Но в декларации был акцентирован еще один тезис, имеющий прямое отношение к последующему творчеству Чернышева: «Искусство должно проникать в жизнь, придавая ей гармоничную и всеобъемлющую грацию». Именно грациозностью решения выделялись произведения художника, относились ли они к области пейзажа, жанра или портрета. Источник этой грациозности заключался в цветовой фактуре живописи, из легких и изящных отношений цветов, вызывающих впечатление свободы изъяснения в прозрачной пространственности композиции.
Его задумчиво-неподвижные пейзажи будто состоят из чувственных цветовых взвесей, ассоциирующихся с хрупким равновесием природных состояний. Работы «Храм Христа Спасителя от Москворецкого моста» (1925), «Ветер на Тимирязевском пруду» (1939), «На одном островке» (1940) полны эмоциональной туманности и тонкого переживания зыбкого состояния природы.
Основной проблемой искусства 1920-х годов все более и более становилось утверждение пролетарской идеологии, в связи с чем разгоралась борьба с художественными объединениями, не желающими отказываться от «буржуазной идеологии». Чернышев, несмотря на красные галстуки, мелькавшие в его картинах, причислялся к тем попутчикам, по определению Троцкого, которые, вероятно, должны были естественно отмереть. Но сроки отмирания или ассимиляции не были ясны.
Отношение Чернышева к авангарду явно носило отрицательный характер, поскольку он, подобно многим отрезвевшим от этого направления художникам, придерживался натурного письма, позволяющего ему ощущать предмет и среду, в которой обитает время, в реальных, конкретных значениях.
Однако Чернышев видел позитивный взнос «футуристов» в искусство: «Оно состоит из отдельных, разрозненных элементов, подвергающихся в наши дни наиболее интенсивной разработке:
1) Проблема цвета; 2) композиция плоскостей и пятен (супрематисты и беспредметники); 3) исследование фактуры, игнорирующее даже цвет; 4) проблема формы (кубисты)…
...Может быть, этот процесс слияния разрозненных доселе элементов в одно гармоническое целое завершится не нашим, а будущими поколениями. Обновленное, мудрое, вернется оно к предмету, к светотени, к сюжету, создав новый, еще непредвиденный нами стиль, взращенный на славных традициях древности».
Эти соображения, высказанные Чернышевым в 1918- 1919 годах, во время разгула беспредметности и утраты изобразительности, оказались пророческими.