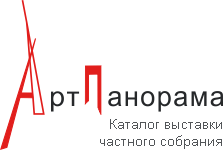а так же отправить MMS или связаться по тел.
моб. +7(903) 509 83 86,
раб. 8 (495) 509 83 86 .
Заявку так же можно отправить заполнив форму на сайте.
Режим работы в октябре 2025 г.19 авг, 2025
Режим работы в августе 2025 г.18 авг, 2025
Режим работы в сентябре 2025 г.Архив новостей
Статьи
Их можно назвать людьми из легенды, и в этом не будет преувеличения. Из легенды, которая начала складываться ещё в годы сталинизма. Речь идет о художниках, объединенных творческой студией под руководством живописца, теоретика искусства, писателя Элия Белютина.
Шел 1946 год, когда Белютин показал на московской выставке свои картины, отвергавшие принципы соцреализма и утверждавшие яркий, эмоционально насыщенный экспрессионизм. Ученик выдающихся мастеров авангарда 1920х годов Павла Кузнецова, Аристарха Лентулова, Льва Бруни, он развивает выдвинутые ими принципы, но и стремится сообщить их возможно более широкому кругу художников, В условиях, когда любое объединение людей грозило обвинением в антиправительственном заговоре, он собирает вокруг себя живописцев, число которых к концу 1940-х годов доходит почти до ста человек.
Развернувшиеся кампания борьбы с космополитизмом и формализмом- «ждановщина»- положила конец этому объединению, но очень ненадолго. Сразу после смерти Сталина, как один из первых симптомов хрущевской оттепели, студия возрождается вновь. К ней тянутся художники всех возрастов и специальностей- живописцы, скульпторы, книжные графики, дизайнеры, архитекторы. Их привлекает гражданская и творческая позиция Белютина, который противопоставляет догматизму официального искусства поиски нового пластического языка, способного адекватно выразить всю сложность духовной жизни современного человека. Его девиз: «Искусство должно служить духовному раскрепощению человека, познанию им самого себя и своих творческих сил» как нельзя более отвечал потребностям советского общества. По словам писателя Ильи Эринбурга, Белютин в противовес антиживописи соцреализма создавал своей студией академию подлинной живописи.
К началу 1960-х годов Студия объединяет до шестисот «белютинцев», как их станут называть. Даже в условиях хрущевской оттепели казалась невероятной их постоянная совместная работа и особенно пароходные поездки по Волге и Оке, в которые отправлялись на специально зафрахтованном пароходе сразу двести пятьдесят художников. Игнорируемые властями, студийцы находят неизменную поддержку среди передовых советских ученых. В организации выставок им помогают академики-физики Петр Капица, Николай Семенов, Игорь Тамм, кинорежиссеры Михаил Ромм, Андрей Тарковский. Открытие одной из самых больших студийных выставок – в апреле 1962 года в Московском Доме кино – было специально совмещено с премьерным показом фильма Тарковского «Иваново детство».
Однако многочисленные и привлекавшие толпы зрителей выставки оставались полуофициальными, открывались на считанные дни, а то и часы. Любая реклама и популяризация их в печати запрещались. За этим одинаково строго следили Министерства культуры и Союз художников. Первый и последний раз иностранным корреспондентам печати и телевидения удалось посетить лишь таганскую выставку в конце ноября 1962 года. Тем большей оказалась неожиданность, как писала польская газета «Трибуна люду», встретить в Москве мощное авангардное движение, представленное яркими, талантливыми индивидуальностями. В западной прессе это движение «белютинцев» получило название «Новая реальность».
Через несколько дней после таганской выставки сотрудники ЦК КПСС обратились к Белютину с просьбой развернуть ту же экспозицию в Манеже, где в то время проходила выставка московского отделения Союза художников. Цель была объединить «леваков» с официальным искусством. Но задуманного объединения не получилось. Хрущев предельно резко отозвался о работах мастеров авангарда 20-х годов, представленных на выставке, и гневно обрушился на Студию, которая была им объявлена «вне искусства». Работы студийцев были тут же арестованы. По всей стране началась новая кампания борьбы с формализмом. «Белютинцы» исключались из Союза художников, лишались работы. Для самого Белютина закрылась возможность выставляться, печатать свои научные труды, официально вести Студию.
Между тем творчество Белютина получает признание за рубежом. Начиная с 1961 года проходят его персональные выставки в Варшаве, Париже, Риме. В Италии на ХVI национальной выставке изобразительного искусства он получает золотую медаль, затем избирается членом итальянской академии современного искусства. Не хочет он примириться и с закрытием Студии. С 1964 года она возобновляет свою работу в загородном доме Белютина в Абрамцеве. На место «испугавшихся» приходят новые художники и – что очень характерно – выходцы из традиционных центров русского народного искусства: Федоскино, Палеха, Обухова, Егорьевска, Загорска. Их не останавливает и то, что после очередной персональной выставки в Париже Белютин объявляется творческими союзами вне закона наряду с Александром Солженицыным.
На Студию обрушиваются новые административные репрессии. Тем не менее студийцы ежегодно продолжают развертывать огромные отчетные выставки в Абрамцеве, в которых участвуют до сорока человек одновременно. И так с 1964 года по сей день.
В основе творчества студийцев лежит созданная Белютиным «теория контактности». Как пишет сам художник «смысл моей теории в том, что в основу развития искусства положено не формальное развитие его изобразительных средств, а то воздействие действительности, которое художник получает от окружающего мира. Именно это воздействие, или контакт, заставляет художника менять характер своего искусства и даже само понимание того, что такое живопись, картина или скульптура. И происходит это по законам контактности. Эти законы основаны на том, что человек под воздействием окружающей его жизни испытывает определенный дискомфорт. Это нарушение внутреннего равновесия – эмоционального, интеллектуального или духовного - человек стремится восстановить для своего нормального существования. Но восстановить его он может только контактируя с искусством (или точнее – потребляя его)». Творчество Белютина и студийцев, или «абрамцевского братства», как они стали себя называть, по-прежнему остается на передовых позициях современного авангардизма, прежде всего русского и советского.
Только на четвертом году перестройки в положении Студии наметились изменения. Четырнадцать картин Белютина, девяносто восемь полотен студийцев отобраны для Третьяковской галереи. Поступают многочисленные предложения зарубежных выставок. Но студийцы упорно ждали - ждали экспозиции на родине, и сегодня они могут показать все те сотни картин и графических листов, какими была отмечена для них прошедшая четверть века.
Нина Молева , кандидат искусствоведения.
Выставка работ студии Э. Белютина. Москва 1990 г.