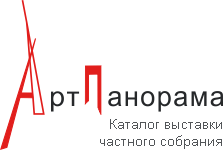Артпанорама поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством!
Галерея будет закрыта для посещения 31 декабря 2025 г., с 1 по 7 января 2026 г.
С нами всегда можно связаться по телефону +79035098386 или в WhatsApp.
а так же отправить MMS или связаться по тел.
моб. +7(903) 509 83 86,
раб. 8 (495) 509 83 86 .
Заявку так же можно отправить заполнив форму на сайте.
Режим работы в новогодние праздники14 нояб, 2025
Советская жанровая картина.10 нояб, 2025
Куплю картины советского периода с изображением ТурксибаАрхив новостей
Статьи
Заслуженный деятель искусств Украинской ССР
Подобно всякой персональной выставке, экспозиция произведений Вячеслава Токарева предлагает нечто большее, чем встречи с его отдельными картинами, даже наиболее удачными и признанными. Только на выставке предстает мир художника со всеми его закономерностями и проблемами, открывая перспективы еще непройдённых путей.
Художник поступил правильно, решившись показать графику- по всей видимости, не главную часть своей работы, поскольку рисунок сопутствует ему на каждом шагу как важное подспорье Токарева-живописца. В графике проверяются самые ответственные и сложные узлы его композиций, рождаются психологические характеристики. В рисунке Токарева замысел более приближен к воплощению (по сравнению с живописью), к самой его реализации. Благодаря своей особой непосредственности рисунок становится важным свидетельством мироощущения художника.
Графику Токарева отличает разнообразие мотивов, портреты сменяются пейзажами и жанровыми сценами. Художник почти не повторяет композиционных решений, он предлагает с неистощимой и, видимо, легко дающейся ему изобретательностью все новые ракурсы и повороты. Кажется, он все время вглядывается в мир, о чем-то вопрошает его настойчиво и тревожно. Так же активно отношение художника к самому искусству графики, к его возможностям и материалам. Пластичность искусства должна со- ответствовать пластичности мира, данного в наблюдении. Потому графика Токарева совершенно лишена штудийной собирательной монотонности. Каждое изменение мотивов рождает новые задачи, и вот уже рисунок художника неузнаваемо меняет строй, предлагая иную трактовку формы, иные композиционные решения, мастер использует в качестве материала то пастель, сангину, фломастер, то графитный карандаш.
Драматичность восприятия мира, ощущаемая в графике, присутствует и в живописи Токарева. Об этом свидетельствуют прежде всего портреты—своего рода итог исследования, познания человеческих характеров и судеб.
В каждом из них четко поставленная и непринужденно решенная декоративная и живописная задача лишь подводит к главному—психологической характеристике, неизменно заостренной, глубокой, драматической. Человек и мир человека, их связи, их отношения—вот тема портретов В. Токарева, и художник умеет показать, как все здесь непросто. Герои его живут напряженной духовной жизнью, им знакомы тягостные сомнения и решения, дающиеся не сразу и нелегко.
В портретах Вячеслава Токарева неизменно возникает что-то недосказанное, волнующая атмосфера тайны («Ожидание», 1968; «Портрет художника Э.Арефьева», 1973; «Этюд к портрету», 1970 и другие), о которой и мы вслед за художником вопрошаем его модель.
Драматичен и токаревский пейзаж. Храня верность самому себе, художник и в пейзажных полотнах величаво монументален. У него своя, особая мера пространства. Никогда он не пишет уголки природы, интимно-камерные мотивы (наверное, просто не видит их). В его картинах предстает целиком горная цепь, тяжкий медлительный хоровод лиловых холмов, речная пойма, уставившаяся в невидимое небо ярко—синими глазами озер, или выгнувшийся бесконечной дугой каменистый морской берег. Но когда Токарев пишет одинокие белые дома Гурзуфа с темными кипарисами на страже («Дом с кипарисом», 1968; «Тишина, 1973) или улочку в Паланге с островерхим домом среди зелени («Паланга Пейзаж с белым домом», 1971), то никогда не разглядывает мотив «в упор». Он-не аналитик. Следить за быстротечной переменчивой игрой света и цвета не доставляет ему особого удовольствия. В этом смысле он менее всего одесский художник, последователь мастеров южно-русской школы с их исследовательским духом и культом пленэра. Его живопись не только широка, но и прежде всего синтетична. Для воссоздания зримого мира главенствующую роль играет форма, которую цвет лепит широко, целостно, мощно. В этом, пожалуй, острее, чем во всем прочем, ощутима память уроков А. Осмеркина, учителя В. Токарева.
Порой и дома, и деревья, и прочие элементы пейзажей В. Токарева приобретают смысл и выразительность персонификаций. Тогда ничем не примечательный дом на повороте гурзуфской улицы вдруг оборачивается величавым Домом, простым и таинственным, как сама человеческая жизнь («Дом с кипарисом», 1968). Тогда кажется, будто старые седнёвские яблони заламывают узловатые черные руки и простирают их в холодное сине-голубое небо, и весь пейзаж пронизывает дыхание тревоги и борьбы. Видимо, художнику не слишком интересно состояние природы, каким предстает оно в непосредственном, прямом наблюдении, исследовании натуры. Он редко изображает определенный месяц или время дня, предпочитая писать лето, осень, зиму. Время в его пейзажах не мимолетно, обычно это время длящееся. И здесь, как и в решении формы, он пользуется единицами измерения, масштабами более крупными, чем принято обычно—ведь он монументалист истинный, в большом и малом.
Природа для Токарева не только свидетельница, но и соучастница человеческой жизни, и вечная ее никогда не обрывающаяся параллель. Она исполнена драматизма. Поэтому его утро порой озаряет печальный свет сумерек, а в летних днях есть предчувствие осени. Художник часто пишет весну, по-видимому, любя ее больше всех прочих времен года. Но делает он это очень по-своему. Его весенние пейзажи не идилличны, в них почти не бывает поры цветения. Весна для него—время героических борений зимы и лета, мощных усилий пробуждающейся жизни.
Токарев—прежде всего и по преимуществу-художник картины. Не только потому, что картины он пишет регулярно и они составляют значительную часть всего, им созданного. Картина для него так же естественна, как для иного живописца пейзаж или портрет. Картинам он поверяет свои самые нежные мысли и чувства, и едва ли не каждая из них не только изображает какое-то событие, но и раскрывает душевный мир художника. В них неразделимы воплощение действительности, минувшей или современной, и самовыражение мастера.
Картина “Солдаты» (1965) занимает среди них сравнительно скромное место. Её миновала блестящая судьба такого полотна, как «Комиссар» (1966-1967), сразу ставшего одним из наиболее признанных полотен советской живописи
60-х годов, и не коснулись споры, сопутствовавшие появлению таких произведений художника‚ как «Новая школа» (1965), «Тачанка» (1969), «Октябрь на рабочей окраине» (1970—1971). Между тем, пожалуй, именно в «Солдатах» мир Вячеслава Токарева, единый в большом и малом, впервые был очерчен со всей полнотой и ясностью.
В этой картине прозвучал язык советской станковой живописи 60-х годов, запечатлелся круг ее художественных приёмов—фронтальная фризообразная композиция, уплощенность картинного пространства, аскетическая монохромность, нерасчлененность силуэта и твердо, отчетливо вылепленная форма. Но все это не бездумное следование общепринятому, не подражание образцам, которые во множестве появлялись в те годы на всесоюзных выставках и формировали не только облик станковой картины, но и впоследствии стали неоднократно повторяемым стереотипом. Вячеслав Токарев принадлежит к тому сравнительно небольшому числу художников, в чьем творчестве получает оформление не только присущая времени художественная манера, но и выражение самих идей, носившихся в воздухе художественной жизни. В каждой из своих картин он исходит прежде всего из собственного творческого опыта, воплотившего и отразившего его мировосприятие. Личного, токаревского, в его работах всегда больше, чем всего прочего.
Художник неизменно ставит знак равенства между судьбами своих героев и собственной судьбой. И потому не удивляешься, встречая самого художника среди персонажей картины «Солдаты». Не юноша, сражавшийся на фронтах Великой Отечественной войны в ее самые трудные годы, а Токарев нынешний, уже „не очень молодой, умудренный нелегким жизненным опытом человек стоит в солдатской шеренге. Как и его герои, он смотрит нам в глаза задумчиво, испытующе, требовательно, о чем-то спрашивая нас. Так устанавливается то единство, во имя которого Токарев и создает свои картины. С одной стороны, художник и его мир, с другой—зрители, стоящие лицом к лицу с его героями, ничем от них не отделенные, те, кому завещаны их подвиг, их труд, их мысли. Эта разомкнутость мира картины, обращенность в мир подлинный становится в 60-е годы для художников, к числу которых принадлежит и В. Токарев, важнейшим композиционным принципом, исполненным глубокого внутреннего смысла.
Такие картины сродни тем памятным монументам и монументальным ансамблям‚ которые уже прочно вошли в нашу реальную жизнь и в тоже время отстранены от неё *. Вне зависимости от сюжетов подобные картины посвящаются герою нашего времени‚ жизнь которого началась в далекие октябрьские дни. Современник предстает в них историческим персонажем, а события недавнего прошлого или наших дней—свершениями, измеряемыми масштабами истории. Так слагается концепция монументальной картины-памятника, очень распространенной в станковой живописи середины-конца 60-х годов и выражающей этические представления нашего времени. Так устанавливается живая связь, диалог минувшего с нынешним. В человеческих судьбах, в свершениях прошедших времен, в событиях недавних дней раскрывается их непреходящий смысл. Они становятся необходимой и неотъемлемой частью нашего времени, входя в духовный мир современника.
Среди множества произведений мастера наиболее значительными являются полотна, созданные за последние десять лет, после 1965 года, когда в «Солдатах» была высказана его художественная программа. А среди этих последних картин наиболее признанной стала картина «Комиссар», которая действительно превосходит предыдущие работы художника глубиной и яркостью замысла, силой его воплощения. В ней прозвучали и настроения первых лет революции, и чувства, рожденные нашим временем. Она выразила дух советского искусства 60-х годов, его нравственную атмосферу.
Весь строй картины, в которой комиссар обращается с речью к невидимым слушателям, задан введенной в неё «цитатой» - знаменитым плакатом Д. Моора. Благодаря ей достигнута не только четкая временная локализация изображенного, но и открыто, определенно, недвусмысленно провозглашена идея художника. Образ плаката раскрывает смысл центрального образа картины. К нам обращается и красноармеец, герой Моора, и комиссар Вячеслава Токарева. Пространство картины продолжается в пространстве реальном. Там сходятся линии ее «силового поля», в этом заключена метафора—утверждение связи времен и непреходящее значение прошлого. Вовлекая нас в происходящее, художник свидетельствует о вечной, ни в чем не утратившей для нас своего смысла жизни идей революционной поры, их призывной волнующей силе.
Нечто подобное неизменно повторяется в картинах В. Токарева, как бы ни отличались они одна от другой. В «Тачанке», где и композиция и живопись воплощают образ бушующего из края в край военного пожара, мы вновь вдруг встречаемся со взглядом ее героя. Словно и мы, вовлеченные в картину, мгновение спустя поднимемся в атаку невидимыми цепями.
В картине «Октябрь на рабочей окраине» использован как будто противоположный прием. Здесь автомобиль с красногвардейцами, тяжело и мощно двинувшийся из ночи в новый день, неся алое знамя революции, вот-вот окажется среди нас, живых, в нынешнем мире.
И снова звучит мысль художника о живом во веки веков смысле революционного минувшего, о единстве нашего времени, времени революционных потрясений и битв, начавшемся в октябрьскую пору и продолжающемся поныне.
Романтический пафос сочетается в полотнах Вячеслава Токарева с устойчивой приверженностью к истине—то ли той, что дается художнику в познании живой натуры, то ли добытой в документах минувших времен. Недаром в картине «Первые механизаторы» (1971) он использует композиционный приём теперь уже старинных- начала 20-х годов-фотографий, чуточку наивных, подкупающих своей безыскусственностью, которые так любили в те времена. Этот открыто декларированный фотографизм (стоит ли говорить о том, что он не имеет ничего общего с фотографизмом в худшем смысле этого слова) подчеркивает истинность, неприукрашенность воплотившихся в картине исторических характеров и судеб.
Каждая новая картина Вячеслава Токарева в чем-то опровергает, оспаривает предыдущую: подражание собственным полотнам для него тоже вид подражательства, ничем не лучшие всякого другого. Следовать самому себе для него означает быть всегда новым, и Токарев сегодняшний и в самом деле решительно не походит на вчерашнего.
Уже в чем-то иной, не такой, как несколько лет назад, Токарев-пейзажист.
В его «Торжественном пейзаже» (1975), кажется, нет ничего торжественного. Это будничный, пожалуй, даже банальный гурзуфский мотив, кем только не написанные камни и кипарисы, и идущий вдоль берега моря человек с веслами на плече. Но никогда еще у Токарева, а, может, и вообще ни у кого из украинских живописцев, не было такого неба, такого слияния земли, моря и воздуха над ними. Никогда еще мир пейзажа не был спаян в такое напряженно вибрирующее трепетное целое, не был так торжественно огромен.
«Торжественный пейзаж» характерен для новой манеры художника, при которой слагаемые пейзажа как бы утрачивают свое значение, тонут в неразделимой единой субстанции, создаваемой художником, достигая при этом полного единства формы, цвета и света. Таковы многие крымские пейзажи Токарева 1974—1975 годов: «Голубой Гурзуф», «Гурзуф. Полдень», «Красные виноградники»—полотна, свидетельствующие о повороте, свершившемся в творчестве художника, особенно очевидном в сравнении с такими его произведениями, Как “Старый Гурзуф» (1968), «Улочка в Гурзуфе» (1968), «Паланга. Пейзаж с белым домом» (1971) и другие.
Конечно, не каждый такой поворот сразу же приносит ощутимые удачи. Бывает, новая вещь, принципиально отличная от предыдущих, заставляет вспоминать о прежних не без некоторого сожаления. Так случилось с картиной «Пробуждение» (1972), написанной В. Токаревым в двух вариантах и все-таки не вполне удовлетворившей его. Но есть у художника удивительное упорство, помогающее преодолевать бесчисленные трудности нелегкого пути и однажды все-таки осуществлять задуманное. И есть стремление не только отображать величие нашего времени, но и быть достойным его-залог всех уже состоявшихся и будущих удач Вячеслава Токарева.
В. Цельтнер
* Едва ли не каждый монументальный ансамбль 40-х годов можно представить как материализованную , наделенную подлинной трехмерностью картину.
Основные даты жизни и творчества
Заслуженный деятель искусств Украинской ССР Вячеслав Васильевич Токарев родился 26 июля 1917 года в Богородицке Тульской области. В 1948 году окончил живописный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина в Ленинграде. С 1949 года - участник республиканских, а с 1957 года- всесоюзных и зарубежных выставок.
Каталог выставки
Советский художник
Москва
1976